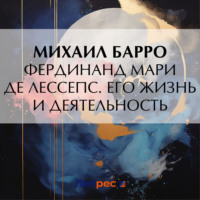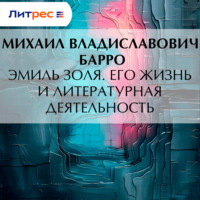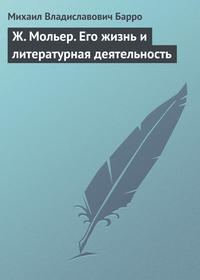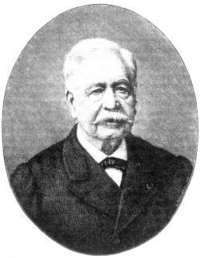полная версия
полная версияТомас Торквемада (“Великий Инквизитор”). Его жизнь и деятельность в связи с историей инквизиции
Легенда об инквизиторстве Доминика сложилась как результат понятного желания его мнимых преемников поставить во главе своего дела лицо, привлекавшее общие симпатии, освятить это дело именем великого подвижника и тем узаконить существование инквизиции.
Историческая справка разрушает эту тенденцию. Прежде всего в 1206 году еще не было и речи об инквизиции, был только дух ее, дух нетерпимости, носившийся над головами еретиков. Наконец, обязанность Доминика и его сподвижников заключалась в обращении еретиков путем увещевания, а меры строгости носили характер эпитемии, то есть чисто церковный характер. Об этом говорит дошедшая до нас разрешительная грамота, прототип инквизиционных примирений с церковью, данная Домиником в 1209 году.
“Всем верным христианам, – так начинается эта грамота, – к которым достигнет это послание, брат Доминик, каноник из Осмы, малейший из проповедников, приветствие о Иисусе Христе. В силу власти, данной аббату Сито, легату апостольского престола, которого мы служим представителем, мы возвратили в лоно церкви предъявителя сей грамоты Понса Рожера, оставившего по милости Божией секту еретиков. Так как он дал нам клятву исполнять наши приказания, причем священник, обнажив его, будет бить розгами на всем протяжении от городских ворот до церкви. Для покаяния мы налагаем на него на всю жизнь пост и запрещаем ему есть мясо, яйца, сыр и всякую животную пищу, исключая дней Пасхи, Троицы и Рождества, в которые он может есть все. В знак отвращения от своей прежней ереси, три поста в году он должен воздерживаться даже от рыбы, три раза в неделю, пока жив, воздерживаться от мяса, рыбы и вина, допуская облегчение только в случае болезни и изнурительных работ. Он должен будет носить церковное платье по покрою и по цвету, с двумя маленькими крестами, нашитыми на груди. Всякий день он будет слушать мессу, если то окажется возможным, а по праздникам и воскресеньям вечерню. Он в точности должен исполнять утренние и вечерние молитвы, читать “Отче наш” семь раз утром, десять раз вечером и двадцать в полночь, жить целомудренно и настоящую грамоту вручить своему приходскому священнику. Последнему приказываем наблюдать за поведением Рожера, который должен исполнять в точности все, что ему предписано, пока господин легат не изъявит своей воли. Если же означенный Понс того исполнять не будет, то мы приказываем смотреть на него, как на клятвопреступника, еретика, отлученного, и удалять его от общества верных”…
В другой своей грамоте, от 1214 или 1215 года, Доминик разрешает Раймонду Альтароне, обращенному еретику, в облегчение эпитемии, “носить такое же платье, как и все христиане, так же, как и Вильгельму Угунье”… Нетрудно видеть из обоих документов, как малоосновательны предположения об инквизиторском характере миссионерской деятельности Доминика. В области церковной дисциплины, в этой деятельности нет ничего нового, а потому нет основания выводить и самого деятеля из этой сферы в совершенно чуждую ему сферу инквизиции. Ничто не говорит также о нетерпимости Доминика. Нет никаких источников, которые рисовали бы его как сурового проповедника, выходящего за пределы увещевания. Те розги, которые прописывались в эпитемиях Доминика, нельзя считать таким выходом, потому что, как одежда кающихся, это был лишь атрибут покаяния. Иначе поступали легаты Иннокентия. Сам выбор этих легатов не обещал ничего хорошего. Петр Кастельно был фанатиком. Он не проповедовал, а боролся. Это он именно “ринулся, как с гор крутых поток, в открытую борьбу с еретиками”. Его слова раздражали противников, но легат как будто искал себе смерти… Медленная победа над ересью, присоединение обращавшихся, сперва единицами, как это делал Доминик, не удовлетворяло Кастельно. Он видел одно лишь упорство, и в этом смысле доносили папе… Под влиянием этих известий, в 1207 году Иннокентий приказал еще раз побудить Раймонда к поддержке веры и затем отлучить его от церкви. Исполнение папской воли было возложено на того же Кастельно. Раймонд был раздражен этим новым натиском из Рима, легат – почти в экстазе под обаянием своей миссии. При таких обстоятельствах они встретились в Сен-Жиле.
– Теперь, граф, – торжественно сказал Кастельно на уклончивые ответы Раймонда о преследовании еретиков, – я объявляю тебя клятвопреступником и беззаконником, гнев Божий да разразится над тобою. Я отлучаю тебя от церкви. На всех землях твоих отныне интердикт. С этого дня ты – враг Бога и людей. Подданные твои разрешаются от присяги, и тот, кто свергнет тебя, поступит справедливо, очистив престол, опозоренный еретиком.
– Повесить негодяя! – вскричал в бешенстве граф.
– Именем святого посланничества моего, – продолжал Кастельно, – которое меня осеняет, я запрещаю всякому поднять руку на помазанника Господа.
Во всей фигуре легата и в тоне, которым он говорил, было столько величия, что никто не решился исполнить приказ Раймонда, и легат удалился. Утром 15 января 1208 года Кастельно был уже близ Роны. Отслужив краткую мессу вместе со спутниками-монахами, он отправился к перевозу. Их ждала лодка с двумя гребцами.
– Если вы не еретики и не жиды, – сказал гребцам Кастельно, – то не откажите дать убежище проповеднику святого Евангелия, который бежит из земли гонения.
Он занес ногу, собираясь войти в лодку, но один из гребцов, как бы желая помочь ему, вдруг ударил его кинжалом. Легат опрокинулся навзничь и со словами: “Да простит их Господь, как я их прощаю”, – скончался на руках провожавших.
Весть об этом убийстве, по общему мнению, подстроенном Раймондом, отозвалась ужасом даже в еретическом Лангедоке. В Риме она послужила сигналом к новой политике Иннокентия. Буллою 6 марта того же года папа не только подтвердил отлучение Раймонда, но в то же время разрешил всякому верному католику овладеть его землями и преследовать его личность. С этого момента начинается политическое падение Лангедока и заря инквизиции. В 1215 году 11 ноября, когда открылись в Риме заседания четвертого Латеранского собора, Раймонд только по имени был графом Тулузским.
“Граф Тулузский, – решено было затем собором, – с давних пор и по разным причинам признанный неспособным управлять страною в интересах веры, должен быть навсегда исключен от государствования и жить вне земли своей, в приличествующем ему месте. Там, принесши достойное покаяние по грехам своим, ежегодно он будет получать 400 серебряных марок на содержание”…
Преемником Раймонда назначался граф Симон Монфор, счастливый предводитель крестового похода, эпилогом которого был Латеранский собор. Оставалось судить еретиков, не погибших среди военной тревоги. Но торжество религии еще раз было отсрочено. В мае 1216 года сыну Раймонда Раймонду VII удалось поднять восстание и свергнуть ненавистное иго Монфора. Тринадцать лет тянулась еще агония Лангедока, до 12 апреля 1229 года. В этот день в Париже происходила торжественная церемония: Раймонд VII присягал на верность французскому королю и обещал быть верным и послушным слугою короля и церкви, до самой смерти своей сражаться с еретиками, их единомышленниками и укрывателями, не щадя ни родственников, ни друзей, ни вассалов, и вполне очистить свою землю от ереси.
“Обещаем, – говорилось в договоре Раймонда, – произвести без замедления должный суд над еретиками и приказать нашим байльи тщательно разыскивать как их, так и единомышленников их и укрывателей; для облегчения розыска обязываемся платить в продолжение 2 лет по две серебряных марки, а потом по одной всякому, кто представит еретика, осужденного епископом”…
В ноябре того же года в Тулузе, едва остывшей от пролитой крови, был созван собор для принятия мер к истреблению альбигойцев. Во всех приходах, по решению этого собора, учреждалась постоянная комиссия из приходского священника и двух или трех выборных граждан. Члены комиссии обязывались разыскивать еретиков и с этою целью осматривать все дома, от чердака, до погреба, и даже подземелья. Владельцы земель и все верные католики обязывались тем же, первые – под страхом лишения земель и предания суду, вторые – по долгу благочестия. Все арестованные отсылались к епископу для определения, действительно ли они еретики или верные католики. В первом случае дом, где жил признанный еретик, подлежал немедленному уничтожению. Если арестованный отрекался до суда от ереси и притом чистосердечно, его высылали в католические города с обязательством носить на одежде два нагрудных креста цвета, отличного от платья. Такие еретики назывались “крестоносцами по вере” и не могли быть приняты ни на какие должности без разрешения папы или его легата. Еретики, отрекавшиеся от заблуждений лишь из страха наказания, заключались в тюрьму и содержались там на счет конфискованного у них имущества, а в случае бедности – на счет епископов. Для упорных был один выход из тюрьмы – на костер.
Таковы были меры пресечения ересей, но не забыты были и меры предупредительные. В виде мер предупредительных тулузский собор постановил, чтобы все мужчины, начиная с четырнадцати лет, и все женщины с двенадцати давали клятву и повторяли ее каждые 2 года, что будут хранить святую католическую веру, доносить на еретиков и преследовать их. Те же предупредительные меры требовали, чтобы всякий католик исповедовался и причащался каждый год три раза: на Рождество, Пасху и Троицу – и не держал бы на дому ни Ветхого, ни Нового Завета. Собор позволял мирянам иметь одни лишь богослужебные книги и псалтырь, но не иначе как на латинском языке. Священникам вменялось в обязанность оберегать причащенных ими больных от совращения с пути истины и присутствовать при совершении завещаний, без чего последние считались недействительными. Священники должны были также присутствовать при погребении усопших, а главы семейств по праздникам и воскресеньям непременно бывать в церкви, выстаивать обедню и выслушивать проповедь. Не исполнявшие этого постановления подлежали штрафу в 12 денариев, половина которого отдавалась владельцу земли, где проживал провинившийся.
Все эти меры дают полное право считать 1229 год первым годом инквизиции и годом первого инквизиционного процесса. Такой процесс еще во время тулузского собора был возбужден для примера и выработки процедуры против некоего синьора Пейрпертюза и барона Неро де Ниорта. Оба были заподозрены в ереси, что подтверждалось свидетелями, и потому обязывались покаяться в течение 15 дней под страхом отлучения и конфискации. Уже с этого процесса определилось лицо святой инквизиции. В суд была позвана масса свидетелей, но обвиняемые не сводились с ними на очную ставку, чем очевидно поощрялась возможность ложного свидетельства. Свидетелям задавали массу вопросов, пытаясь сбить их в показаниях, и нередко обращали таким образом из помощников правосудию в подсудимых. Доносы были узаконены постановлениями собора, и ими пользовались почти как явными обвинениями уже в эту раннюю пору инквизиции.
С 1229 года начинается эпоха так называемой первой инквизиции. Ее отличие – участие епископов как судей и карателей ереси. Не одно падение Лангедока послужило на пользу ее учреждения. В 1220 году, то есть за девять лет до тулузского собора, император германский Фридрих II, один их самых светлых умов своего времени, совершенно неожиданно явился сторонником нетерпимости и рядом законов определил тяжелые наказания еретикам. Политические волнения, непрерывно наполнявшие его царствование, и, как ирония судьбы, ссора с папой вплоть до проклятия не дали ему возможности настоять на исполнении этих законов. Но папы воспользовались постановлениями Фридриха. Они служили для них разрешением ввести инквизицию в Италии и даже попытаться утвердить ее в Германии. Так поступил папа Григорий IX в 1231 году, с буллы которого, помеченной этим годом, начинается распространение инквизиционных трибуналов по всему Апеннинскому полуострову, исключая Неаполь и Венецию. С этого же времени ведатели и судьи ересей формально называются инквизиторами, установленными церковью, inquisitores ab Ecclesia dati. Роль этих инквизиторов уже с 1229 года предпочтительно занимают доминиканцы, потому что при самом своем образовании орден этих монахов имел целью проповедовать слово Божие, откуда другое название ордена – ордена проповедников. Однако рядом с ними выступали и другие, францисканцы и бенедиктинцы, последние в лице клюнийского приора Этьена в 1233 году. Лишь в 1243 году папа Иннокентий IV окончательно утвердил за доминиканцами исключительное право на пополнение рядов инквизиторов. По словам Геффле, эта привилегия впервые укрепилась за ними в Испании. В Испании же суждено было инквизиции получить дальнейшее развитие и сделаться орудием не только религиозной, но и политической нетерпимости. Эта новая эра начинается в 80-х годах XV столетия. Девиз ее деятелей – едино стадо и едина вера, а самый яркий представитель этих деятелей – Торквемада.
Глава I. Великий Инквизитор
Иоанн Торквемада. – Рождение Фомы Торквемады. – Два рассказа о первых годах его жизни. – Монастырская жизнь Торквемады. – Назначение его приором. – Торквемада – духовник Изабеллы. – Смутное время в Кастилии. – Изабелла – наследница кастильской короны. – Фердинанд V, ее муж. – Соединение Кастилии и Аррагонии. – Роль Торквемады в этом событии. – Его смирение и религиозная ревность. – Значение Торквемады в истории инквизиции. – Первые трибуналы в Испании. – Николай Эймерик – Инквизиция в Кастилии. – Ее падение и возрождение. – Булла 1478 года. – Попытка действовать убеждением. – Катехизис Мендоцы. – Памфлет еретиков. – Севильская инквизиция. – Деятельность Морилло и Мартена. – Многочисленность их жертв. – Грамота милосердия. – Квемадеро. – Бегство мараносов. – Апелляции в Рим. – Протест Cuкcma IV. – Торквемада – “великий инквизитор”. – Генеральная юнта инквизиторов. – Первые законы Торквемады. – Недовольство испанцев. – Убийство Арбуэ. – Казни заговорщиков. – Новые волнения. – Чествование памяти Арбуэ. – Роль Торквемады в подавлении недовольства. – Письмо Сикста
Среди блестящих представителей католической церкви на Констанцском соборе, осудившем Гуса, как надежда этой церкви обращал на себя внимание молодой доминиканец Иоанн Торквемада. Благочестивая ревность его в борьбе с еретическою догмою доставила ему впоследствии звание кардинала и красноречивый титул “защитника веры”… У брата этого Торквемады, синьора Петра-Фердинанда, в небольшом городке Старой Кастилии – Торквемаде (по известиям других – в Вальядолиде, и третьих – в Сеговии), около 1420 года родился сын Фома, затмивший славу своего дяди кардинала.
Известия о первых годах его жизни разноречивы. По словам Лавалле, это была богато одаренная натура, с умом почти гениальным, но страстного и неровного характера. Фоме дали хорошее воспитание, но выбор житейской дороги был решен впоследствии самим Фомою. До этого времени он путешествовал по Испании или, вернее, переезжал из города в город, был в Саламанке, Толедо и Кордове. В Кордове он увлекся какой-то красавицей, но эта красавица предпочла ему мавра и вместе с этим мавром удалилась в Гренаду. Отсюда, по словам Лавалле, начало ненависти Торквемады к завоевателям Испании… Из Кордовы Фома направился в Сарагосу с тем, чтобы оттуда перебраться в Барселону и там при первой возможности сесть на корабль и отплыть в Италию, в столицу папы. Но все вышло иначе. В Сарагосе происходили в это время публичные диспуты доминиканцев, и весть об этих диспутах сейчас же привлекла туда молодого путешественника. Он был уже достаточно сведущ в теологии, а потому не побоялся вступить в препирательство с самим доминиканским приором Лопецом из Серверы. Молодой оппонент обнаружил при этом такие познания – явление редкое среди испанского духовенства описываемой эпохи – и такой дар красноречия, что изумленный Лопец решил привлечь его в свой орден… Так повествует Лавалле о первых шагах Торквемады.
У Турона читаем другое. По Турону, Фома еще юношей поступил в монастырь св. Павла в Вальядолиде, принадлежавший доминиканцам, и с первых дней обратил на себя внимание суровым образом жизни. Скоро весть об этом разнеслась по Кастилии. Толпы богомольцев спешили к Торквемаде, чтобы поведать ему свои скорби и страдания и получить утешение и совет. Но одним врачеванием душевных ран еще не исчерпывалась деятельность благочестивого монаха. Он вскоре отличился как оратор, обличитель ереси и тайных и явных врагов религии. Такое усердие не могло, конечно, ускользнуть от блюстителей испанской церкви. Как эхо этих подвигов, явились предложения Торквемаде высоких постов в духовной иерархии и титула доктора богословия от испанских рассадников просвещения. Суровый аскет ничего не желал и упорно отказывался от почестей и повышений. Лишь в 1459 году он нарушил эту скромность и согласился принять звание приора в монастыре св. Креста в Сеговии. Отсюда начинается возвышение Торквемады. Обитель св. Креста была излюбленным местом паломничества не только людей простых, но также и представителей высшего общества Кастилии. Сюда наезжала королева вместе с инфантой Изабеллой кастильской. Принцессе подыскивали в это время духовника. Никто, казалось, не мог исполнить эту должность лучше приора из Сеговии, и ему действительно поручили эту обязанность. Торквемада искусно повел это дело и скоро овладел полным доверием религиозной принцессы. Искусство требовалось в самом деле большое. Кастилия переживала в это время пору волнений: короля Генриха IV, брата Изабеллы, не любили, главным образом духовенство, и, наконец, лишили престола. Низложение было объявлено в Сеговии, и едва ли Торквемада не знал о заговоре задолго до его исполнения. На место Генриха, продолжавшего, впрочем, считать себя королем и имевшего сторонников, был посажен брат его Альфонс, но он вскоре умер, и престол опять освободился. Корону снова вернули Генриху, но с условием, что наследницей его будет не дочь от второй жены Иоанна, а сестра Изабелла. Про Иоанну говорили, что она с ведома короля, которого за бездетность называли Бессильным, была дочерью его жены и любимца Бельтрана дела Гуэва. Ее так и звали – Бельтранея – и усердно распускали эту басню в народе. В это смутное время Торквемада принимал живейшее участие в провозглашении Изабеллы наследницей Кастилии. Вместе с этим провозглашением для него открывалась возможность осуществить свои давние планы о борьбе с еретиками.
Изабелла с семилетнего возраста считалась невестой Фердинанда, в то время еще не наследника Аррагонии. Но и этому принцу улыбнулась судьба. Смерть, как Изабелле, очистила ему дорогу к престолу, и потому оставленный было проект его женитьбы на кастильской наследнице опять сделался мечтою патриотов, управляющих судьбами обоих королевств. Напрасно Генрих пытался выдать сестру за короля Португалии и тем удалить ее от престола в пользу Иоанны – Торквемада ловко разрушал его планы. В то время, как Изабелла отказывалась от искателей ее руки, он искусно поддерживал в ней симпатию к Фердинанду. Наконец 19 октября 1469 года, тайно от Генриха, в сопровождении Торквемады, она отправилась в Вальядолид, где ждал ее, также крадучись, прибывший Фердинанд, и их обвенчали. Раздраженный Генрих объявил Изабеллу лишенной престола, но его не слушали, и в 1475 году, после смерти ненавидевшего ее брата, Изабелла стала королевой Кастилии и Леона. Тот же титул был дан ее мужу Фердинанду V. Два самых больших королевства Испании соединились таким образом в одно политическое целое, хотя первое время номинально.
Торквемада как главный виновник этой унии, естественно, получал с этих пор первенствующее значение, и не только в Кастилии, но также в Аррагонии. В награду за труды ему предлагали место архиепископа Севильи, но он отказался, как ни упорно упрашивали его Фердинанд и Изабелла. По словам Турона, честолюбие было чуждо натуре Торквемады, он думал только о благе государства, достоинстве религии, спокойствии народов и спасении душ. Он думал о той розни, которую вносили в духовную жизнь Испании населявшие ее евреи: как те, которые сохраняли закон Моисея, так еще более те, которые “лицемерно” принимали христианство.
В полное тревоги правление Генриха IV Торквемада громил отступников с высоты кафедры и даже восходил до самого короля и со слезами умолял его о защите церкви. Но как только Изабелла стала править Кастилией, ревнителю благочестия сразу открылась перспектива более успешной деятельности. Он сейчас же обратил внимание Фердинанда и Изабеллы на печальное положение церкви.
“Этот лев религии, – говорит Флешье, – убедил обоих, что испорченность нравов и свободомыслие с каждым днем возрастают, что соседство христиан с евреями и маврами вредит благочестию народа. Он убеждал их в необходимости произвести тщательное расследование заблуждений и нечестия того времени и возвратить престиж религиозной дисциплине”.
Епископы, которым издревле принадлежала забота об этой дисциплине, прибегали в таких случаях к анафеме и церковным наказаниям, но в эпоху великих расстройств, по мнению Торквемады, необходимы были более сильные лекарства, и самым лучшим было учреждение особого трибунала, “более могущественного и более строгого, чем другие”… Флешье преклоняется и перед Торквемадой, и перед инквизицией. Он даже как бы желает приписать Торквемаде инициативу введения костров, что очевидно ошибочно, но его слова об отдельном трибунале, более могущественном и более строгом, прекрасно определяют значение Торквемады в истории инквизиции. Он не был первым насадителем ее в Испании, но ему справедливо приписывается открытие новой эры в инквизиционной практике. Торквемада довел эту практику до перлов жестокости, из орудия охраны религиозных догматов сделал ее орудием религиозной нивелировки и первый придал инквизиционному трибуналу политический характер. Из рук папы он передал этот трибунал в руки короля и сделал судилище не столько помощником торжеству веры, сколько орудием абсолютизма.
Первые инквизиционные трибуналы появляются в Испании в 1232 году. По повелению папы Григория IX, таррагонский епископ Эспарраго поручил тогда доминиканцам начать преследование еретиков. Ревность этих инквизиторов с первых дней поселила недовольство и озлобление в населении, но дело нетерпимости не умалялось даже после убиения двух представителей его – Петра Планедиса и Петра Кадирета. Особенно неуклонно велось оно в Аррагонии при инквизиторе Николае Эймерике, который оставил своим преемникам “Руководство для инквизиторов”, а потомству – славу жестокого гонителя еретиков.
Кастилия также не избегла ига инквизиции, но двоевластие, ослаблявшее папство в конце XIV и в начале XV веков, привело к тому, что в 1460 году в Кастилии не было уже ни одного инквизитора. Заслуга вторичного водворения их в этой стране принадлежит Торквемаде. По его настояниям Фердинанд и Изабелла упросили папу Сикста IV опять ввести инквизицию в Кастилии. Разрешение было получено вместе с буллою 1 ноября 1478 года. Давая свое согласие на розыск и преследование еретиков, Сикст указывал в то же время, каких судей должно поставить во главе насаждаемых трибуналов: людей по крайней мере сорокалетнего возраста, чистой нравственности, магистров или бакалавров богословия, или же докторов и лиценциатов канонического права. Изабелла не сразу решилась на введение инквизиции в своих владениях. Голос совести удерживал ее от этого шага, но Торквемада сумел победить ее сомнения, в ярких красках изобразив ей, как угодно Богу учреждение инквизиции. Однако и после папской буллы Фердинанд и Изабелла не сразу приступили к исполнению замыслов своего духовника, но решили испытать сперва меры кротости и увещевания. По желанию обоих правителей, кардинал Мендоца, архиепископ Севильи, составил краткий катехизис для верных католиков, своего рода спутник христианства от купели до могилы. Многочисленные экземпляры этого наставления были розданы народу в Севильи и по всем приходам севильской епархии как главному обиталищу еретиков. Священникам было приказано разъяснять его смысл прихожанам и вместе с тем предупреждать их, чтобы они и дети их поступали согласно предписаниям катехизиса. Что касается отпавших от истинной веры, то для мирного возвращения их в лоно церкви предполагалось воздействовать словом проповеди и назидательной беседы. Для наблюдения за результатами этой меры были назначены особые лица, которым суждено было решить: быть или не быть инквизиции. Сторонники этой последней употребляли, конечно, все усилия, чтобы доказать правительству бесплодность мирных намерений; с другой стороны, еретики не только не думали раскаиваться в своих заблуждениях, но, предчувствуя начало преследований и сознавая свое право веровать по убеждению, неосторожно выступили с памфлетом против своих “спасителей”.
Ересь упорствует – таков был приговор наблюдателей за мирными попытками Изабеллы и Фердинанда… В 1481 году в монастыре св. Павла в Севилье открылись заседания инквизиционного трибунала под руководством доминиканцев, провинциала Михаила Морилло и викария ордена Мартена. Недружелюбно встретило население этих братьев-проповедников. Начальникам провинций было приказано оказывать содействие инквизиторам и их свите, но потребовалось вторичное приказание, чтобы достигнуть желаемых результатов. Тогда началось массовое бегство мараносов в соседние земли. Мараносы были крещеные евреи, но общий голос считал их тайными приверженцами Моисеева закона, и на них прежде других еретиков должны были сказаться приемы севильских инквизиторов. Их бегство было признано уликою, и потому 2 января 1481 года инквизиторы издали прокламацию, в которой объявляли бежавших мараносов еретиками и приказывали всем вельможам Кастилии под страхом анафемы, отнятия владений, чинов и достоинств задержать беглецов и под стражей доставить в Севилью, а имущество их конфисковать.