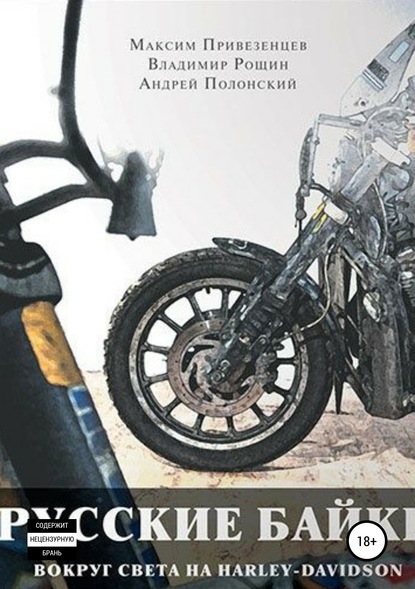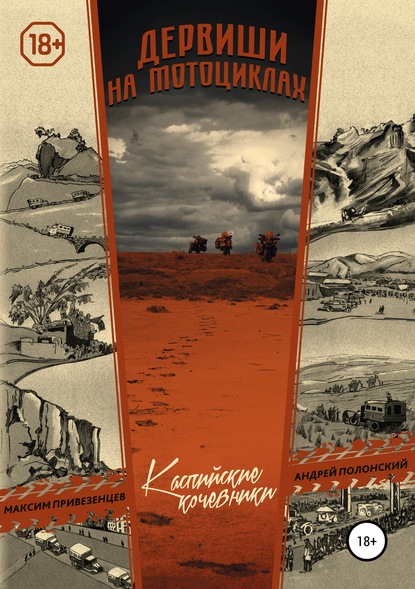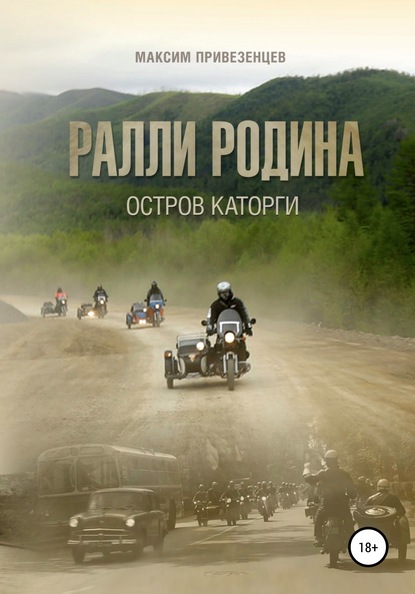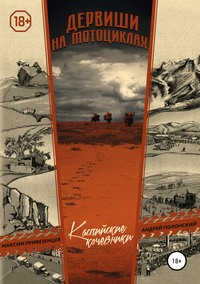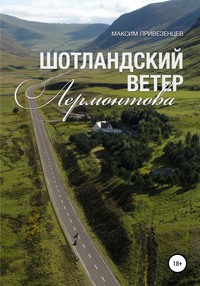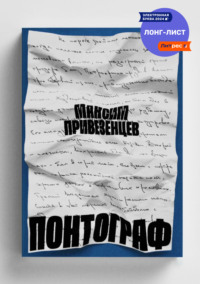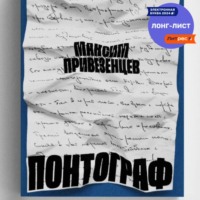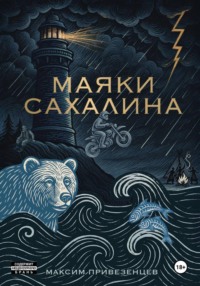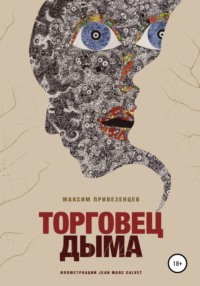полная версия
полная версияДихроя. Дневники тибетских странствий
– Чего я не понял?
– Говорю ж – ничего!
– Опять шутишь?
– Вовсе нет. Ты удивляешься… чему? Что грубые тела большинства тибетцев годами мучаются? Это ужасно, да, но так было и будет всегда. Местные не станут ничего менять, а твоим друзьям из Бурятии, России… да всем – плевать. Поэтому – плюнь тоже. Жизнь – это всего лишь пытка, которую надо пережить. Им даже в чем-то проще – жизни у них короче наших.
Ампил смерил Цыбикова-из-сна хмурым взглядом, потом повернулся и уставился на самого востоковеда, наблюдавшего за сценой со стороны.
– В общем, спи и не мучайся, – сказал гость.
Миг – и одновременно с последним словом Цыбиков провалился в непроглядный мрак, без мыслей и переживай.
Утром Цыбиков проснулся оттого, что их лодку сильно тряхнуло.
– Что случилось? – приоткрыв один глаз, спросил востоковед.
– Все в порядке, Гомбожаб, – торопливо заверил слуга. – Это просто чей-то труп.
Цыбиков рассеянно кивнул, наблюдая за тем, как тибетец, умело орудуя веслом, отодвигает плывущее по реке тело от лодки. Покойный явно был простолюдином: не имея денег на сожжение и небесное погребение, семьи бедняков просто сбрасывали их тела в ближайшие реки. Это считалось дешевым, но допустимым способом похоронить истинного буддиста.
– Можно вопрос, Гомбожаб? – осторожно уточнил Жаргал, когда тело бедняка скрылось из виду.
– Задавай, – сказал Цыбиков, сонно глядя на берег, – впереди показались развалины замка Гон-гар-цзон, которые находились в нескольких десятках верст от цели путешествия – Цзэтана. Время не пощадило это место, и Гомбожаб не удивился бы, если из ближайшей бойницы прямо сейчас высунулась грязная голова пастуха, ищущего в руинах заплутавшую козу.
«А в былые времена в эти окна, возможно, смотрел сам император… Время даже беспощаднее людей».
– Ты в первые ночи спал очень тревожно, а сейчас спишь так хорошо… Почему?
– Нашел, что искал, – уклончиво ответил Цыбиков.
«Почти нашел».
– Дихрою?
– Ее, – кивнул Гомбожаб и, вытянув руку, указал в сторону берега:
– Останови-ка здесь, позавтракаем.
Тибетец послушно направил лодку к берегу.
Пока Жаргал разжигал костер и закреплял над пляшущим пламенем котелок с водой, Цыбиков рассматривал мешочки с дихроей и своим травяным сбором, в очередной раз отметив про себя, что первый куда меньше второго.
«Может, попробовать их смешать? Как там говорил Ампил? «Когда дихрои мало, добавляю что-то другое, все равно отлично получается»? Ну, вот и глянем…»
Цыбиков решительно пододвинул к себе оба мешка и бросил в чайник пол-ложки дихрои и целую – своего травяного сбора.
Когда вода закипела, Жаргал налил кипятку в чайник Цыбикова и поставил рядом с ним на походный столик. Выждав время, не спеша наполнил чашку отваром. Ароматы травяного сбора и дихрои до того причудливо переплелись, что и не понять было, существовали ли когда-то по отдельности.
Глоток – первый, робкий.
Пауза.
И – взрыв!
Волна блаженства накрыла Цыбикова с головой. Все моментально стало неважно – и лодка с тибетцем, и Жаргал, и Цзэтан с Лхасой. Снимки, записи… Кому вообще это должно быть интересно, когда можно просто слиться с этим всеобъемлющим ничем?
«Кажется, я наконец-то начал что-то понимать…»
«Скорее, ты понял, что ничего не понимаешь, и на том успокоился. И правильно».
«Опять ты… но – плевать».
«Вот. Уже лучше. Прогресс точно налицо».
«Я стараюсь несильно стараться».
«Все, не выбивай из моих усталых глаз скупую слезу умиления».
– Гомбожаб? – осторожно позвал Жаргал.
Цыбиков открыл глаза и чуть оторопело уставился на слугу.
– Ты сидишь так уже четверть часа, – сказал тот.
– И? – выгнул бровь востоковед.
– Тибетец говорит, надо плыть дальше, иначе до ночи не доберемся.
– Ну, поехали, – пожал плечами Цыбиков.
Он поднялся и пошел к лодке. Спину ему жег недоуменный взгляд Жаргала.
«Плевать, что он думает. Плевать, что думает кто-либо на свете».
Всю дорогу Цыбиков лежал на корме и рассматривал проплывающие по небу облака. Каждое из них имело свою особенную форму, но при этом за считанные мгновения трансформировалось в нечто иное…
«А, может, это – тонкие тела, лишенные грубых, слепленные в кучу?»
Внутренний голос не ответил Цыбикову.
Ближе к вечеру они наконец прибыли в Цзэтан, который, как выяснилось, ничего особого себой не представлял. По сути, древняя столица состояла из двух частей – города и монастыря, – соединенных общей центральной улицей. В монастыре, как и положено, был цокчэн-дуган с надписью «Вечно благоденствующий храм». Учитывая, что храм этот только недавно отстроили заново, надпись приобретала новый, ироничный смысл.
– Не хотите ли посетить Чжэ-лха-хан? – спрашивал Жаргал с надеждой. – Там стоит статуя Цзонхавы, и…
– Не хочу, – покачал головой Цыбиков. – Но сходим, не зря же приехали…
– А с утра, может, пойдем на рынок и…
– Туда точно не хочу. Сам купи все, что нужно, я дам денег.
– Хорошо… – неуверенно пробормотал Жаргал.
Они сходили в храм и посмотрели статую, но Цыбиков забыл, как она выглядит, едва добавил подробное описание в свой дневник вечером. Ночью он отлично выспался, а утром, пока слуга бегал на рынок за провизией, пошел за город. Там, от городских стен и до самого горизонта, простирались пашни. Множество простолюдинов, перепрыгивая через оросительные каналы, машут мотыгами, изредка утирая пот со лба грязными рукавами, отчего лица их к концу дня становятся черными, как у шахтеров.
«Человек просыпается, работает, засыпает, кому повезет – поест и … может, даже с кем-то – тут уж как повезет!»
Цыбиков зевнул и побрел обратно в комнату, которую они снимали в местной гостинице. Придя, он сразу завалился спать, но клопы, заехавшие гораздо раньше, не дали спокойно отдохнуть.
Когда Жаргал с баулами, полными еды, вошел в комнату, Цыбиков, не оборачиваясь к двери, сказал:
– Пошли обратно в Лхасу. Надоело мне тут.
Жаргал чуть сумки не выронил.
– Но… вы же мне сказали, купить на три дня…
– Ничего, съедим по дороге.
– Так вы… на лодку? Или как?
– Какая лодка? Ты против течения погребешь? Да и облака мне надоели. Переправимся на тот берег и повозку наймем.
– Понял, – кивнул слуга.
Два часа спустя, отдав ключи удивленному хозяину, Цыбиков и его слуга покинули гостиницу и отправились обратно в Место Богов.
Все, что Гомбожаб видел в этом путешествии, осталось текстом на страницах его дежурного дневника, но быстро покинуло его голову – поскольку размышления о памятниках старины с недавних пор стали казаться востоковеду абсолютно бесполезным занятием.
•••
9 октября 2019 года
Пелкор Чёде. Шигадзе. Монастырь Ташилунпо. Художники танка и книга по тибетской медицине. Сны Тибета
После двенадцатичасового перехода в 360 километров накануне мы дали себе возможность отдохнуть на час больше обычного и в восемь утра проснулись свежими и полными сил. За завтраком все были непривычно приветливы и словоохотливы: делились впечатлениями о вчерашнем дне и ожиданиями от дня, который только-только начался.
– Как нога? – спросил Виталик у Ламы.
– Пойдет, – ответил тот. – К ночи опухла, но компресс вроде бы помог – ботинок по крайней мере надел без труда.
Олег ждал нас в лобби.
– Я думал, он после вчерашнего поседеет, – тихо сказал мне Лама. – Так нервничал.
– Да там они все втроем психовали, – хмыкнул я. – Ну, дорога правда была непростая…
К десятому дню мы уже точно знали, что нам понадобится в пути, поэтому на сборы ушло от силы четверть часа. Когда все были готовы, мы покинули отель, чтобы посетить замок Дзонга. Поднявшись по очень узкой и очень крутой лестнице, наша группа забралась на одну из площадок, откуда открывался прекрасный вид на монастырь Пелкор Чёде и главную его достопримечательность – ступу Кумбум. Пелкор Чёде находился в самом центре города: крыши квадратных серых построек видны были практически из любой точки города, поскольку находились на возвышении.
– Раньше за городскими стенами находилось около 20 монастырей, – сказал Олег. – Но культурная революция беспощадна… Что-то разрушили полностью, что-то – частично… Что удалось восстановить – перед нами.
В Пелкор Чёде мы пошли колоритными улочками Старого города. Крохотные двухэтажные дома с белеными стенами выглядели бедно, но в лучах не по-осеннему яркого солнца казались даже симпатичными; невольно возникали ассоциации со спальным районом где-то в глубинке России ранней весной.
– И как удалось сохранить все эти постройки нетронутыми? – спросил Артем.
– О, революция тоже не обошла их стороной, – хмыкнул Олег. – Большую часть тоже отстраивали заново, но по старым чертежам, поэтому и кажется, что все уцелело, хотя это совсем не так…
Из-за поворота вдруг вышла корова и, остановившись, удивленно уставилась на нас. Несколько секунд она переваривала увиденное, а потом громко замычала, то ли приветствуя нас, то ли прогоняя прочь.
«Ну точно как в небольшом провинциальном городке…»
– Это одна из трех известнейших ступ Тибета – Кумбум. Ее название переводится, как «Сто тысяч священных изображений», – вещал Олег.
«Когда люди не знают, чем заняться, они строят монастыри», – зевнул в моей голове Андрей, пока я рассматривал храм, выполненный, подобно Самье, в форме мандалы.
«По-твоему, это бесполезный труд?» – подумал я.
«Абсолютно. Поверь, Макс, я на это насмотрелся за сто с лишним лет. Годы спустя культурная революция напоминает мне помутнение, всплеск – как будто дети долго и упорно строили башню из кубиков, потом разнесли ее к ебеням, заскучали и построили заново. Это охуительное развлечение – строить, потом рушить, потом восстанавливать разрушенное, – но оно годится, вероятно, только для людей, не способных догадаться о существовании этого цикла, повторяющегося снова и снова…»
«Но почему так происходит?»
«Потому что человек – существо непостоянное. Он может долго терпеть любые измывательства, пока в один прекрасный день все накопленное дерьмо не выплескивается наружу… Остыв, человек смотрит вокруг, понимает, что натворил, и пытается все исправить. А затем все повторяется – поначалу совесть и память о былых страданиях примиряют человека с новым витком рабства… до поры до времени».
«Но как этого избежать?»
«Да никак. Просто жить, пока живется. Монахи тоже думали, что за стенами своих храмов смогут спокойно медитировать… но стены оказались достаточно ломкими, когда на них навалились разом тысячи завистников, уставших трудиться на благо лам».
«И тем не менее конец все равно неизбежен?»
«Конец есть у всего, что имеет начало. Эту банальную вещицу знают даже детишки, собирающие башни из кубиков. Иронично, но я давно уже не боюсь смерти, наверное, поэтому и живу так долго: судьба любит давать нам то, чего мы не хотим».
– Макс! – позвал Лама.
Я встрепенулся и удивленно посмотрел на друга.
– Ты чего завис? – усмехнулся Боря. – Пошли, все уже внутри.
– Да так… задумался, – пробормотал я и вместе с Борей прошел через красные двери с изображениями безымянных клыкастых демонов внутрь храма.
Как и в других монастырях, куда мы заезжали прежде, здесь царил полумрак. Я скучающим взором скользнул по гонгу, по монахам, прошедшим мимо нас. Я не то чтобы отчаялся найти дихрою, нет… но слова Андрея не шли из головы.
«Судьба любит давать нам то, чего мы не хотим».
Оспорить это утверждение было чертовски сложно, как и обратное ему – чем больше мы чего-то хотим, тем меньше шансов, что мы это что-то получим.
«Если не спрошу, потом жалеть буду…» – подумал я, глядя на молящихся перед статуей Майтреи монахов.
Повторяя заученный наизусть текст, я разочаровывался снова и снова, когда обитатели Пелкор Чёде в ответ на мои слова лишь с виноватыми улыбками качали головами. В такие моменты я почему-то представлял себе Андрея, сидящего в одном из кафе на берегу Невы, прихлебывающего чай из чашки и глумливо ухмыляющегося.
«Наверное, если бы я прожил 150 лет, вел бы себя точно так же…»
После обеда мы поехали в Шигадзе. Там нам предстояло посетить монастырь Ташилунпо и заночевать на высоте 4200 метров над уровнем моря. Дорога туда вела весьма комфортная, не чета вчерашней, куда нас занесло из-за нашей неуемной жажды приключений. Впрочем, никто из группы не был готов к таким траблам на постоянной основе.
Лама то ли из-за больной ноги, то ли по какой-то другой причине гнал 100–120 километров в час, совершенно забыв про группу. Мы едва за ним поспевали: метаморфоза движения в колонне – если ведущий катит со скоростью 120, значит, тем, кто в хвосте, приходится топить не меньше 140–150. Благо, дорога почти не виляла и обошлись без каких-либо происшествий.
– Куда так несешься? – спросил я во время короткой передышки, которую мы устроили по дороге. – Забыл, что не один едешь?
– А? Да, блин, Макс, я… че-то не заметил даже, что так мчу. Поглядывая в зеркало, видел вас, но че-то задумался и покатил, весь в думках, про скорость вообще забыл.
Боря обескураживающе улыбнулся. Глядя на него, возникало чувство, что боль и страдания позволили ему обрести некую гармонию с самим собой и получать удовольствие от путешествия, а не ворчать по поводу и без.
«Похоже, ушиб ноги привел его в более спокойное, уравновешенное и даже чуть отстраненное состояние… хотя, может, конечно, это всего лишь побочный эффект обезболивающих…»
– Даже жаль, что путешествие уже заканчивается, – сказала Лариса. – Как-то ближе к концу стало так… комфортно, что ли.
– Спокойно, – вставил Роман.
Все закивали, соглашаясь с ними. Трудно было спорить с тем, что, когда мы остались ввосьмером, все дрязги сами собой сошли на нет, исчезла суета. И дело не только в том, что нас покинули Дмитрий и Паша; подобный эффект свойствен относительно коротким «командировкам». По сути, сейчас мы ловили момент, когда все уже освоились в новой стране, привыкли к распорядку дня, к мотоциклам и друг к другу. Плюс атмосфера Тибета неизбежно влияла на всех и каждого, и даже эксцентричный Виталик вел себя спокойнее, чем обычно.
«К концу жизни тоже будет комфортнее, чем в течение ее?» – осведомился голос.
Хотя наши обеды-ужины по-прежнему напоминали восточный базар: долгий выбор блюд, томительное ожидание, обязательное ворчание на тему «как же надоела эта тибетская еда», слежка за соседними столиками – «а ну как мою тарелку туда поставили, а я тут жду?» – и долгий распил счета в конце. Неизменный атрибут всех стадий – мобильник. Да, сейчас мы пялились в свой гаджет немного меньше, чем в самом начале, но все равно ни один из «паломников» (включая и меня, разумеется) не представлял себе прием пищи без новостной ленты и посещения соцсетей.
«Цивилизация во всей красе…»
Собственно, именно это слово пришло на ум, когда мы въехали в Шигадзе. Здесь, в сравнении с Гянгдзе, все было куда более цивилизованным: по дороге в Ташилунпо я с удивлением обнаружил среди пестрых вывесок табличку «Бургеркинг», а также вполне европейскую (по крайней мере на первый взгляд) кофейню, смотревшуюся здесь так же чужеродно, как русский в ушанке и ватнике, медитирующий в одной из пещер Самье.
Кроме того, здесь все было насквозь пропитано пафосом, так свойственным туристическим городам. Побродив по монастырю, сделав множество кадров и послушав театральное представление в стиле китайской оперы, я оставил группу, сел на лавочку за стенами Ташилунпо, раскурил сигару и взялся писать дневник. Описывать храм в подробностях не стал: по сути, он вызывал те же чувства, что и иные тибетские святыни, – красиво, дорого, с налетом мистицизма… но не покидает чувство, что ты уже видел подобное множество раз…
Когда все события минувшего дня успешно конвертировались в килобайты текста, я спрятал планшет в рюкзак и побрел в отель. Все вокруг шумело, сверкало, блестело… и, сказать по правде, немного раздражало своей навязчивостью. По счастью, мне повезло забрести на тихую улочку, и отсутствие каких-либо звуков стало настоящей симфонией для моих ушей. Я даже шаг сбавил, не желая покидать этот островок спокойствия, столь редкий в условиях Шигадзе. Взгляд мой скользил по дверям и окнам потрепанных домов, прячущих фасады в полумраке вечера… пока не наткнулся на вывеску мастерской художников танка – картин-свитков. Некоторые экземпляры висели за стеклом, привлекая внимание туристов. Задержавшись на пару мгновений, я в итоге провел у мастерской не меньше четверти часа: зрелище было поистине завораживающим – казалось бы, ничего особенного, но сама необычная фактура танка придавала типовым тибетским образам некий дополнительный шарм.
Следующей остановкой на пути стала книжная лавка. Помедлив, я толкнул дверь – скорее машинально, нежели вправду надеясь войти – и с удивлением обнаружил, что она не заперта. Продавщица, услышав скрип петель, оторвалась от чтения и с улыбкой спросила что-то на китайском. Я с помощью гугл-переводчика все-таки задал ей свой вопрос:
– Есть ли у вас книги про дихрою?
Продавщица ненадолго задумалась, а потом кивнула и куда-то ушла. Вернулась она пару минут спустя, неся в руках большую книжку в матово-красной обложке с вензелями. Все тот же гугл-переводчик помог понять, что это – книга по тибетской медицине. Продавец на пальцах показала цену, и я, расплатившись, с книгой под мышкой продолжил свой путь к отелю.
– А вот и наш волк-одиночка, – хмыкнул Лама, когда я вошел в лобби. – Что за книжка?
Они с Ребе вдвоем скучали на диванчике, дожидаясь, видимо, остальных.
– По тибетской медицине, – ответил я. – Может, в ней про дихрою будет…
– Опять дихроя, – улыбнулся Боря. – Думаешь, найдешь ее?
– Не знаю. Но, пока тут, почему бы не попробовать?
Лама кивнул и с гордостью сказал:
– Ты в курсе, что наш пробег перевалил за 1500 километров?
– Ну, для десяти дней не такая уж космическая цифра, – улыбнулся я.
– Ну да, так вроде подумаешь – немного. Но сколько впечатлений!.. Сложные, интересные, красивые и непредсказуемые дороги Тибета…
– Каждая со своей душой, – кивнул я.
– Паша только что написал, – сказал Ребе, помахав в воздухе телефоном. – Который «чайный мастер»…
– Ну, звучит ведь, звучит! – хохотнул Лама.
– Что говорит? – с улыбкой спросил я.
– Говорит, нормально долетели.
– Про чай не написал? – вставил Боря.
– Не-а, – покачал головой Ребе. – И про долг ни слова.
– Ладно тебе, напишет, – отмахнулся я.
– Да я не сомневаюсь, но… хоть бы спросил, куда деньги перевести.
Саша заметно нервничал, и виной тому, разумеется, было не только наплевательское отношение Паши к своему же обещанию вернуть долг сразу по возвращении в Москву, но все в совокупности. По сути, Ребе больше всех натерпелся от капризов «чайного мастера» – вспомнить хотя бы, как он гнал вниз мотоцикл Ларисы, брошенный Пашей на вершине монастыря. Но обиднее всего, что за разруливание ситуации с оплатой ремонта, которое отняло у нас уйму сил и эмоций (а возможно, и по тыщенке баксов), Паша даже не сказал спасибо, словно это была наша прямая обязанность – разобраться с его проблемой, которая могла подставить всю группу. По всей видимости, именно это выводило Сашу из себя.
Я же – то ли из-за общения с голосом, то ли из-за некой психологической усталости – уже не принимал происходящее так близко к сердцу, а потому лишь повел плечом и сказал:
– Ну сам ему напиши, раз так переживаешь.
– Да сейчас же…
Некоторое время Саша набирал сообщение, а потом тихо усмехнулся чему-то.
– Что там? Ответил? – оживился Лама.
– Не. Новость его увидел, с фотками, в мордокниге цукерберговской. Верхний комментарий зацените.
Саша протянул нам телефон, и мы с Борей уставились на экран. С фотографии нам улыбался некий мужик в черном костюме с цветастым логотипом на груди. Позади мужика находилась аэротруба, инструктором которой он, видимо, и являлся.
Комментарий незнакомца гласил:
«Лучше бы деньги, потраченные на путешествие в Тибет, нищим детям Тибета отдали!!!»
Я, признаться, слегка опешил от такого заявления. И эти слова изрек не Далай-лама XIV, не иной добродетельный человек, посвятивший свою жизнь борьбе с голодом и болезнями, а обычный русский мужик, который, готов спорить, никогда не занимался благотворительностью.
Открыв на своем планшете Пашину страницу, я долистал до нужного комментария и застучал по экрану, набирая ответ:
«1) только завистливым уебкам приходит в голову считать чужие деньги;
2) только скудоумным баранам свойственно считать, что в Тибете царит нищета, тогда как тут кругом первоклассные детские сады, школы и медицина. Люди, которые никогда не бывали в Тибете, но при этом сочувствуют нищим детям Китая, ничем не лучше американских реднеков, всерьез рассуждающих о том, что по улицам России бродят белые медведи с балалайками и водкой;
3) только малодушный скупердяй может стричь с лохов бешеные бабки за висение в потоке воздуха и тратить их на свои нужды вместо того, чтобы помогать нищим детям России».
– Ты чего, ответ ему пишешь? – удивился Ребе.
Я кивнул и прочел им свой коммент. Друзья от услышанного натурально опешили.
– Ну и зачем? – недоуменно спросил Лама.
Я открыл рот… и закрыл.
«А правда – зачем?»
«Да ладно, это же самое крутое свойство интернета: если сказать мудаку в соцсети, что он мудак, он, разумеется, прислушается и сразу перестанет им быть», – хмыкнул Андрей в моей голове.
– Правда ваша – незачем, – признал я. – Толку от этого никакого.
Парни облегченно улыбнулись, а Андрей, смеясь, проворчал:
«Вот, кажется, ты тоже потихоньку начинаешь понимать…»
«Понимать что? Что воевать с ветряными мельницами бессмысленно?»
«Понимать, что все – бессмысленно. Вчера тоже когда-то было сегодня и даже завтра, и где оно теперь? Там же, где будем рано или поздно все мы – в забытье».
– Ладно, вон народ идет, пошли ужинать, – сказал Лама, поднимаясь с дивана.
Иронично ли, что ужин в разнесчастном «Бургеркинге» после недели тибетской кухни оказался для всех нас сродни маленькому празднику? Мы уплетали картошку и бургеры, будто это были лучшие яства на свете. Тот, кто открыл «Бургеркинг» в Шигадзе, где обычный бутерброд сравним по стоимости с ужином тибетской семьи, либо отчаянный человек, либо гений.
Сложно понять, то ли бургер так подействовал в разряженной атмосфере Тибета, то ли сказалось эмоциональное возбуждение от злопыхателя в «мордокниге», но ночью мне приснился весьма странный сон.
Будто мы с Андреем, облаченным в оранжевые одежды монахов, сидим в покоях Далай-ламы дворца Потала за дорогим резным столом. Я курю сигару, Андрей – кальян; попутно мы пьем «пепси» из чайных кружек и беседуем о самых разных вещах – например, о том, что человек находится в плену своих эмоций, и, хоть писатели и режиссеры давно твердят об этом на каждом углу, наука заинтересовалась эмоциями относительно недавно.
– Ты будешь удивлен, – сказал Андрей, оглаживая бороду, – но у обезьян есть способность к творчеству. Да-да, и многочисленные научные эксперименты это подтверждают. Конечно, на берегах Брахмапутры ты не встретишь обезьяну с карандашом или с печатной машинкой, но важно другое – между творческим потенциалом человека и примата нет непроходимой стены. Вся разница – в спектре переживаемых эмоций. И здесь культурно-исторический бэкграунд выходит на первый план. Человеческая природа достраивается в течение жизни, обрастая нормами, табу и предписаниями, полученными из социума, из культуры. Способность человека усваивать культуру и ею руководствоваться обеспечила нам биологический триумф в эволюционном смысле.
– Да, но как же страх с точки зрения культурного опыта? – с улыбкой спросил я.
Выпущенное мною облако дыма приняло форму трясущегося от страха кроманьонца.
– Если человека сбросить с обрыва, ему будет страшно, как и любому животному, – это ведь тоже эмоция! – глядя, как рассеивается мимолетный морок, докончил я мысль.
– В страхе нет культурной составляющей, – покачал головой Андрей. – Это инстинкты, как размножение, насыщение… самосохранение. Но их форма различна в культурном контексте. Очереди обреченных людей в печи Освенцима – страшный, но важный пример. Культура выработала механизмы блокировки и смягчения страха смерти. При этом культурный феномен как «смертельная голодовка» доказывает, что даже инстинкт «есть, чтобы не умереть» не является принудительным для человека. Человек может принять решение заморить себя голодом до смерти.
– А как быть со скукой? Это ведь только человеческая эмоция. И хотя она появилась сравнительно недавно, может, 200–300 лет назад, когда человек перестал тратить все свое время на борьбу за выживание. Об ее историческом бэкграунде говорить не приходится. Думаю, Далай-лама пятый и тринадцатый скучали одинаково скучно.