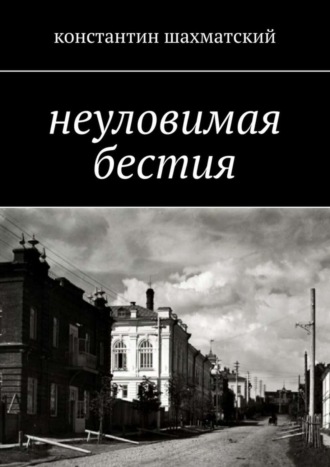
Полная версия
Вятский сыщик Михаил Салтыков. Неуловимая бестия
***
Так гнусно Михаил не чувствовал себя никогда. Его Софи, которую он обожал и боготворил, безжалостно порвала с ним всякие связи. Даже дареное колечко выбросила. И, конечно же, во всех бедах он винил не себя, а любимую женщину.
По дороге Михаил зашел в кабак и напился. Через пару часов, пробираясь от фонаря к фонарю по Воскресенской улице в сторону дома, он рассуждал, практически вслух, мало заботясь как это выглядело со стороны (да и вправду, чего боятся, когда уже ночь).
– И как можно верить женщинам? Ты даришь ей себя целиком, а она в любую минуту может вырвать из груди твое сердце и растоптать!…
Увы, господа. Любовь или дружба для особ женского пола не имеет никакого значения. Все делается в порыве сиюминутного настроения, без долгих раздумий и сожаления. Р-р-раз, и не было стольких приятных минут, проведенных наедине. Р-р-раз, и ты переведен в разряд злейших врагов, от которых позорно и стыдно принимать малейшие предложения о помощи. Ну, как же так! Почему нельзя расставаться с любящим человеком, пусть даже он и подлец, и негодяй, на благостной ноте? Почему нужно рвать, и непременно по самому тонкому и чувствительному месту? Ужели для того, чтобы эта рана не заживала никогда, чтобы ты мучился до конца своей жизни? А еще проклясть человека, и посулить ему многие кары, за оказанное, в сущности, одолжение.
Салтыков не понимал этого. Не понимал, и не хотел понимать Софьиной непримиримости. За что? – восклицал он, хватаясь за очередной фонарь как за спасительную соломинку.
Благополучно добравшись до дома, Михаил прислонился к деревянной калитке, чтобы перевести дух и поправить размотавшийся шарф (тот волочился за ним по обледенелому деревянному тротуару). Разобравшись с шарфом, он поднял голову в поисках железного кольца, чтобы открыть дверь, и тут увидал торчащий из щели притвора сложенный вдвое конверт.
Салтыков выдернул его и возвернулся к фонарю, чтоб рассмотреть. На синей бумаге красивым женским почерком адрес.
– Лиза?! – воскликнул чиновник, – Моя несчастная, невинная девочка!
И тут он вспомнил другую клятву, что давал от чистого сердца и без тени сомнения.
Да, еще каких-то два или три года назад он, Михаил, не был клятвопреступником. Он был наивным и честным юношей, без толики лицемерия. Что же случилось, и кто виноват? Хороший вопрос. А виновата грубая в своей беспощадности окружающая действительность. А еще осознание бесполезности в ней собственного существования. Страх непосильной ноши, что не по собственной воле свалилась на плечи. А главные виновники торжества – опрометчиво данные обещания! Ведь обещания всегда произносятся от человеческой слабости. Невозможности изменить что-либо в данный момент времени, когда удобнее перенести ожидаемые мероприятия на потом.
И, опять же, эти проклятые женщины! Они чувствуют слабость мужчины и начинают ей пользоваться.
Вот так и Лиза, коварная петитфи7… Тоже ведь ждет, надеется. Выдумала себе любовь, а теперь мучается. И папенька ее, тоже хорош. Не вразумит доченьку. Постойте-ка! А может любовь – это тоже слабость?
Салтыков сунул конверт в карман, и тут же забыл о нем, как вошел в дом. Слуга Платон, с причитанием и охами довел его до кровати и уложил спать. Прямо так в одежде и уложил, зная скверный характер хозяина (чего доброго, драться начнет).
На следующее утро чиновник долго приходил в себя и продолжалось это приблизительно до обеда. Отъезд в командировку пришлось отложить. Собранные заботливой рукою Платона чемоданы стояли у стены, ожидая отправки, а вычищенное щеткой пальто лежало на них, аккуратно сложенное. Придя в чувство от выпитого рассола, поднесенного на удивление трезвым Григорием, Михаил еле вспомнил о каком-то письме, что так и не открыл со вчера, так ему было плохо.
– Гриша-а! – тихо позвал Салтыков.
В дверях появился чавкающий Григорий. Он вышел из кухни, с куском хлеба в руках.
– Чего, барин?
– Ты письмо видал? Я вчера сунул его куда-то и не припомню.
– Не-а, – покачал головой камердинер, – Вас Платон принимал, у него и спросите.
– Платоша-а! – снова позвал Салтыков.
Приняв от Платона конверт, Михаил нетвердой рукою вскрыл его и начал читать.
От бумаги пахло духами, а ровные строчки аккуратного девичьего почерка непринужденно струились одна за другой между его дрожащих пальцев, жалуясь, что уже год как их хозяйка не получала от Михаила писем, сообщая далее очень важные для девушки новости. Лиза писала, что сейчас с маменькой и сестрою гостит у своих родственников в Москве, и что после Владимира здесь чувствуется здесь разница, буквально, во всем. И все здесь по-другому. И народу в златоглавой полно. Настолько полно, что дважды за день одно и то же лицо невозможно встретить. Что обыватели не так одеваются, как во Владимире, а много проще и, в то же время, более по моде. А еще по-другому говорят. И в церкву ходят раз в неделю, будто для галочки. Впрочем, писала она, к этому можно привыкнуть. Еще писала Лиза, что ждет от него, Михаила, какого-нибудь подарочка, и что подарок этот можно было бы выслать к ней в Москву, так как здесь они будут гостить еще месяц или два. Писала еще, что они с маменькой, забавы ради, присматривали фасоны свадебных платьев, которые можно пошить здесь же, с последующей подгонкою…
– Гришка, подлец! – крикнул Салтыков, бросив письмо, – Дай еще рассолу!
Камердинер, недовольно ворча что его отвлекают, вновь поплелся в сарай, где стояла бочка с оставшимися с зимы огурцами.
– Нет, ты видал? – говорил Михаил оставшемуся рядом Платону, – Подарочек ей надо! Свадебные платья они примеряют!
Платон пожимал плечами:
– Барышни…
– Безголовые курицы, – вот что я тебе скажу о всех женщинах!
Старик покачал головою, будто бы разделяя мнение хозяина, но ничего не сказал.
– Стоит только раз пойти им навстречу, и они уже думают, что могут править тобою, как вздумается.
– Вот-вот, – проворчал Григорий, появившись с ковшиком рассола в руках, – А я всегда говорил: от баб только беды.
– Поэтому ты с ними не связываешься?
Барин взял холодный ковш и жадно припал губами к его краешку, забыв про слабое горло.
Оставив Платону денег на хозяйство из выданных прогонных, Салтыков уехал к вечеру, наказав Григорию шибко не пить. Уехал злой. Еще бы: впереди ответственные дела, и тут такие переживания. Скорее прочь отсюда! Да пропадите вы пропадом!
Глава вторая
Конец марта 1855 года. Город Казань
Далеко за полночь в ворота дома купца 3-й гильдии Трофима Тихоновича Щедрина постучали. А именно, неистово заколотили эфесами сабель два усатых городовых, заслоняя широкими спинами господ в штатском. Заслоняемые темнотою, – чиновники особых поручений Салтыков и Мельников, – большие авторитеты по вопросам раскольничества.
А всей честной компании, движимой служебным рвением и поручением совещательного комитета, страсть как хотелось узнать во всех малейших деталях о делах тайных и явных (в основном, конечно же, тайных), зажиточного купца—раскольника Щедрина.
По наводке Анания Ситникова, а так же полученных в ходе следствия сведений о поездке к данному лжеепископу Щедрину на исповедь сарапульских старообрядцев, господа следователи предвкушали нынче же ночью с головою погрузиться в пучину самых неприглядных тайн раскольнического мира, а ежели повезет, то и раскрыть настоящий заговор. Причем, нити оного, по твердому убеждению Синода и покойного императора, могли бы вести куда дальше, чем за пределы России-матушки. Ни дать ни взять – в какую-нибудь предательскую Австро-Венгрию или того хуже – к османам.
Полицейские, крича, чтобы хозяева немедля отворяли ворота, все усерднее работали кулаками и саблями. Им же вторили цепные псы во дворе, все сильнее заходясь в истерике. Господа чиновники в нетерпении переминались с ноги на ногу, зябко кутаясь, кто в воротники пальто, кто в пелерины серых шинелей. В самом доме заметно было движение: тусклый свет поочередно вспыхивал то в одном то в другом окне; занавески шевелились; неясные тени человеческих фигур поминутно мелькали, скрываемые за частоколом выставленных на подоконниках горшков с геранями.
Наконец им открыли. Дворовый мужик заспанного вида и всклоченной бородою, что так долго мешкал с засовами, тут же получил в зубы от вахмистра и сел. Другой мужик, едва удерживая псов, по одному на каждую руку, попятился назад, давая проход господам. Вахмистр, отобрав лампу у обескураженного привратника, устремился через двор к крыльцу, где уже стояли человек пять в наспех накинутых тулупах.
– Именем Государя императора! – прогремел на ходу басом.
Стоявшие на крыльце зароптали и зачастили двуперстием. Откуда-то из недр дома послышался бабий крик.
– Трофим Щедрин кто будет?! – грозно осведомился подоспевший Мельников.
Бородатые мужики продолжали креститься и молчали.
– Отвечайте, канальи! – прогремел вахмистр, демонстративно опустив руку на сабельную рукоять.
– Так дома он… Спать изволит, кормилец.
– А ну-ка, – раздвинул толпу Салтыков, – посторонись.
Чиновники быстро засеменили вверх по крашеной масляной краскою лестнице. За ними последовали еще двое рядовых из полицейского участка и понятые.
– Добавь света! – гаркнул вахмистр, задерживаясь внизу, – А ну, кто там еще – двигай все сюда, на улицу! …Да убери же ты псов, …зарублю! А ты, Васильков, закрой ворота и стой там. Да смотри, чтобы ни одна сволочь не ускользнула!
Расторопные чиновники хозяйничали в горнице. Приданные им в помощь из Управы двое чинов обыскивали тем временем другие комнаты. Хозяин дома, старик лет семидесяти с окладистой бородою и в исподней рубахе, молчаливо взирал на происходящее, сидя по центру комнаты. Три бабы – жена и дочери, застывшие в дверях, ревели навзрыд.
– Ну что, Трофим Тихоныч, – спрашивал старика Мельников, – будете упорствовать?
Хозяин сурово молчал.
– А ведь Ананий сдал вас,… сдал со всеми потрохами.
Хозяин фыркнул в бороду.
– Советую добровольно помочь следствию, – нервно вторил Мельникову Салтыков, перебирая в углу под деревянной божницей стопку старопечатных книг.
– А вы скажите, в чем вина, я и подумаю.
– А вы не знаете? – повел бровью Мельников.
– Ну-у-у-у, знать-то я много чего могу, давно на свете живу, а вам-то что. Убил я кого, или ограбил?
Мельников хмыкнул:
– К вере раскольничьей совращали-с.
– Подумаешь, велика потеря. А вы докажите?
– Верно, плохо слышите, Трофим Тихоныч? Я же сказал: все тот же Ситников, он же – лжеинок Анатолий, сдал вашу тайную организацию.
Старик отрицательно покачал головой:
– Не знаю такого, и ведать не ведаю, о чем говорить изволите.
– Так значит? – Мельников пристально смотрел на подследственного, пытаясь проникнуть ему в голову.
Не выдержав взгляда, старик Щедрин выдохнул:
– Ну, сдавал я ему угол, что с того… Ну, ссудил деньгами в виду крайней необходимости. Чай, дело свое имею. Авось, не обеднею с нескольких ассигнаций. Да на наших плечах купеческих Россия держится!
Щедрин повернул голову в сторону вопрошающего:
– А вы, господа хорошие, разве не помогли бы вопиющему о помощи?
– Не юлите, Трофим Тихоныч, – вступился Салтыков, приблизившись к Щедрину, – Видали мы ваши ассигнации и для кого они предназначаются – знаем. Да и переписку вашу секретную читали-с. Вы, окромя того что купец-картузник, еще и фальшивомонетчик!
– Молод ты еще, – отозвался старик.
Вероятно, Щедрин хотел еще что-то такое добавить к сказанному, но не успел. Салтыков, что есть силы, ударил лжеепископа по лицу. Старик охнул и схватился за челюсть. Бабы в дверях взвыли как по команде, но их тут же выгнали. Взбешенный чиновник навис над раскольником, готовясь ударить вновь. Его большие на выкате глаза старались пригвоздить старика к полу, а крепко сжатый кулак завис над убеленной сединами головой.
– Где станок печатный хороните?! Кому деньгу поддельную сбываете?!
Старообрядец беспомощно озирался по сторонам, ища справедливости. Но никого, акромя обидчика и чиновника Мельникова рядом не было. Полицейский, загородивший всем телом дверной проем, виновато понурил голову.
– Вы понимаете, что вам за это будет?! Тюремный замок, суд, каторга, – продолжал напирать Салтыков.
– И это слабо сказано, – кивал помощник, – Политическое дело, государственной изменой попахивает.
– Да как так-то? – встрепенулся старик, позабыв про зубы, – Что значит государственное, я же всей душою за императора нашего…
Тут в двери протиснулся унтер, и Салтыков для продолжения обыска отлучился в задние комнаты, пригрозив напоследок раскольнику. Дальнейший разговор происходил между Щедриным и господином Мельниковым с глазу на глаз.
***
– Не юродствуйте, Трофим Тихоныч, – начал Мельников, – Знаете какая сейчас обстановочка на внешнеполитической арене. Очередная кровопролитная война с Турцией. Что же вы как маленький, право слово. Все ваши связи старообрядческие только врагам на руку.
– Но ведь и там братья христиане правоверные, в Палестине-то, в Константинополе, под османским-то гнетом. Вот и Государь наш Николай, Царствие ему небесное, – старик перекрестился, – последний хранитель правоверия, под крыло свое дунайские княжества принять вознамеривался.
– А откуда вам знать, любезный, с кем именно вы там связи поддерживаете. Все это проверенные люди? А может это шпионы Бонапарта! Или вы сами – шпион?
– Да упаси Господь! – открестился старик.
– Вы, сами того не ведая, Ватикану служите. Подрываете, таким образом, экономическую мощь державы Российской деньгами фальшивыми да книжками нецензурными.
– Да не в жизнь! – продолжал божиться Трофим Тихоныч.
– Или тайные скиты с беглыми рекрутами в прикамских лесах на содержание берете. Этим, опять же, подрываете обороноспособность России-матушки.
– Ни про какие скиты не ведаю!
– Ну, по меньшей мере, склоняете в раскол и смятение наводите в душах верующих своим отступничеством от духовного регламента.
– Во-о-о-о-т оно, вот оно что! – возопил раскольник.
Здесь Мельников замолк, дав Щедрину высказаться. Отойдя от старика, стал с интересом разглядывать шелковую пелену под иконами на противоположной стене, и даже щупать ее пальцами.
– Вот в чем причина поклепа-то! Это все Никон, богохульник, реформатор бесовский! Вселенским патриархом стать вознамерился! С него все и началось еще при Алексее Михайловиче!
– Я историю знаю, – усмехнулся чиновник.
– Да где же! – понизил голос Щедрин, – Как можно веру Христову по своему усмотрению переделывать, то вправо то влево поворачивать на потребу политике! Это же надо такое выдумать – Крестный ход в обратну сторону!
Чиновник особых поручений заходил по комнате, явно что-то обдумывая. Старик поворачивал вслед за ним голову, пытаясь уловить настроение Мельникова.
– Или я не прав? – спросил он следователя.
– Пожалуй, этим высказыванием, Трофим Тихонович, вы косвенным образом подтверждаете мое подозрение о ваших связях с Балкано – Турецкой диаспорой…
– Да как же так? Ежели бы я Ватикану помогал, да разве б я радел за братьев наших? Ведь как прибили мы щит на воротах Цареградовых, так и защищать и помогать обязалися.
– А какая вам разница: что в прошлом хазары-иудеи, что православные и наши и за границею, все одно – враги для вас. Что до меня – как ни крути – дети Божии. Зачем же копья ломать? Вот вы говорите, что историю знаете. А я авторитетно вам заявляю, что история и истина, это вещи разные и пропасть между ними огромная. Да и раскол этот давно начался, как вам должно быть известно, и Никон только точку поставил в этом двоеверии.
Мельников остановился и смотрел на старика не отрываясь.
– Вот вы молчите, – продолжал он, – однако мы оба знаем, кого предки наши славили еще до Владимира. Поэтому, кстати, и православными назывались. А сам-то князь, в угоду собственных амбиций, новую веру насаждал, под страхом смерти. Огнем и мечем по согласованию с угасающей Византией. Да и сам Иисус – еврей правоверный! Что вы на это скажете?
Старик молчал, а Мельников не унимался:
– Получается так, что вы, Трофим Тихоныч, всего лишь защитник одного из поворотов в истории, но не истины. И в этом мы с вами похожи. Я тоже защищаю интересы государевы. Вы же не против царя?
Раскольник истово закрестился:
– За царя, за царя-нашего-батюшку!
– Ну, слава Богу! – облегченно выдохнул Мельников, – Времена нынче сложные и меняться приходится, несмотря на то, что ваши предки, староверы православные, никакой официальной власти над собою не признавали – ни воевод царских, ни власть московскую с митрополитами, ни податей. Ведь главное для нас сегодня, это что в нашей Державе твориться, правильно? А сегодня так получается, что мы с вами, образно говоря, на одной стороне баррикады перед опасностью из-вне, то есть войною с Турцией. Однако, я защищаю интересы нынешние, а вы – давно минувших дней. Отсюда вывод – вы заблуждаетесь в том, что обеими руками за старое держитесь.
– Не вразумлю, к чему вы клоните, – пожимал плечами старик.
– А вот к чему: к разоблачению вашему. Меня вот что интересует больше прочего: в чем причина сей непоколебимости?
Старик молчал.
– А причиной тому, я полагаю, – отвечал за него Мельников, – ваша материальная заинтересованность. Раскольником быть выгодно, не правда ли? В любом городе тебя приветят, накормят, и от лиха сберегут.
– Вера моя от прадедов и от отцов наших, – буркнул Щедрин, – того и держимся.
– Известное дело, – кивнул Мельников, – в лаптях, небось, не хаживал.
– Так известно, – ухмыльнулся в бороду Щедрин.
– Вот я и говорю, родительскую кубышку в погребе дополняете? Какая там у вас по счету тыща: вторая, третья, четвертая?
– Не вашего ума дело, – нахмурился старик, – Я своим трудом наживаю.
– Так живите! кто ж вас неволит! Однако, со сбором капитала, упускаете вы из виду вот какую вещь…
Старик нахмурил брови и вопросительно глядел на следователя.
– Раз так, – продолжал Мельников, – то купить вас можно! И купит вас тот, кто большую сумму предложит. Например, сами знаете кто. Но вы можете об этом не догадываться, правда, ведь? Действовать, так сказать, по чужому наущению? Полагая в душе, что это ваши собственные помыслы.
– А вы докажите! – буркнул старик.
– Вот этим мы сейчас и занимаемся, Трофим Тихоныч. Проблема в том, что не хотите вы землю-матушку пахать как простой крестьянин. Желаете почета и уважения без пота и крови пролитой. Куда ни глянь, раскольники ваши в кулаке купеческом все губернии держат. И вы туда же: лучше именем Христовым кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть?
Старик насупился и сидел так около минуты молча. Потом сказал:
– Намеки ваши на Антихриста, не к ночи будут сказаны. Я в Бога верую. А то, что я в свои семьдесят лет не разбираюсь в чем-либо – это навряд ли. Одно я знаю точно: теперешние христиане православные, хоть и отступники от веры истинной, но все равно – братья. Правильно вы сказали, что Господу нашему нету разницы – все его дети. И ежели я, по упущению своему, помог кому-то, кому не следовало, так Бог простит мне эту малость, ибо не для праведников религия наша, но для грешников. В числе коих и я, Трофим Щедрин, купец 3-й гильдии пребываю.
– Ну и мастер вы, Трофим Тихоныч. Право слово, так ловко выкрутить! – улыбнулся Мельников, – Как бы там ни было, наш сегодняшний визит к вам должен принести определенно положительный результат. Например, найдем за печкою фальшивые денежки. Вон чиновника из Вятки прислали, и не просто так. Смею вас заверить, что у господина Салтыкова исключительных нюх на подобного рода делишки, даром что молод. Он уже не одно дело раскрыл и исколесил по нашим губерниям изрядно. Честнейший человек.
Старик пожал плечами и тихо сказал:
– Пущай ищет.
– Да-да, уж он обязательно найдет, будьте покойны… А книжки свои раскольничьи можете и дальше читать сколько вздумается, лишь бы господин Салтыков у вас из чуланчика станок печатный не выудил.
Старик кивнул:
– Что найдете, все ваше.
И про себя добавил чуть слышно:
– Мне чужого не надо.
***
Долгое отсутствие денег определенно портит человека. Все свое время он тратит на поиски заработка. Зарабатывание денег становится смыслом и единственным наполнением жизни. Постепенно человек замыкается на себе и своих сиюминутных потребностях. Свои собственные потребности выступают на передний план. Как следствие – человек перестает замечать окружающих.
После смерти матушки Аверкиев вздохнул с облегчением. И не только потому, что матушка, наконец-то отмучалась. Иван Александрович почувствовал крылья, которым раньше не давали расправиться заботы о хлебе насущном и чувство сыновнего долга к родительнице. Теперь же он мог делать все. А главное, – не задумываться о последствиях. Того якоря, тех железных цепей, что приковывали его к дому, не было. Смерть матери, если честно, и подвигла его на предательство. На кражу, если быть точным, государева золота.
Сразу после кражи он еще испытывал ничтожные угрызения совести. Дальше было проще. Заручившись поддержкою друга, Аверкиев тратил не задумываясь: вино, случайные женщины. Хорошо не дошло до карт, иначе как знать, удалось бы ему приступить к осуществлению заветного плана? А именно – сделать предложение руки и сердца Анне Ильиничне.
И вот, настал тот день, когда откладывать более стало нельзя. И он засобирался.
***
Тем же утром оба чиновника сидели в кабинете Мельникова с обсуждением не только результатов ночного следствия. Вопреки приподнятому настроению Павла Ивановича, Салтыкову же, как будто, нездоровилось. Сидел он в пальто, не раздевшись. Помешивал чай, и отрешенно смотрел в стопку бумаг на столе.
– Ну, что скажите, Михал Евграфыч? – спрашивал Мельников, расположившись в кресле со своим стаканом чаю.
– Сегодня же составлю рапорт листов на десять и отошлю в канцелярию, – отвечал недовольный чиновник.
– И то правда, за два дня столько обысков провели, а похвастаться нечем.
– А Ситникова этого, собаку, – сгною на каторге!
– Ну, полно тебе, Миша. Нельзя же так верить людям. Ужели первый раз обманывают?
Салтыков кивнул, продолжая глядеть в стол.
– А меня больше Трофим Щедрин заинтриговал. Этакий скопидом. Этакий ревнитель древлего благочестия, для которого вера сия – лишь прикрытие. Так ведь и не раскололся, – раскольник.
Павел Иванович усмехнулся собственному каламбуру.
– А как он лихо про братьев православных загнул, пока вы там печатный станок разыскивали! Газет, что ли, начитался, старый хрыч?
Салтыков перевел взгляд на товарища и произнес:
– Не понимаю я тебя, Павел Иванович.
Мельников усмехнулся:
– Это почему?
Салтыков устало выдохнул:
– С одной стороны ты все правильно делаешь. Смотришь вперед, в угоду государственным интересам действуешь. Наверное, и размышляешь соответственно. Мол, раз поставили тебя на эту должность – исполняй. Да не абы как, а с непременным усердием. Ежели Государь сказал, что нам нужны Балканы, значит так оно и есть – нужны. И даже задумываться не стоит: зачем?
– Так-так-так, – мысль Салтыкова явно заинтересовала Павла Ивановича.
– C другой стороны, – продолжал тот, – начинаешь цацкаться с этим Щедриным. Что-то объясняешь ему, пытаешься доказать. Но разве с самого начала не понятно, что с ним такой номер не выйдет. В душе он насмехается над тобой, уверенный в своем превосходстве. Будто бы обладает какой-то важнейшей тайной, о которой тебе не ведомо. И с его точки зрения, факт обладания ею, возвышает его относительно прочих на высочайший уровень. Да будь ты хоть генералом, для него ты останешься жалкой помехой к собственной цели, к которой он идет очень даже уверенно, потому что видит ее, потому что знает, что нужно делать. Я могу предположить, что Щедрину дьявольски повезло, что мы ничего не нашли. Но, с другой стороны – мы и не могли найти, потому что такого поворота событий изначально не предполагалось.
– Хочешь сказать, что кто-то предупредил?
– Нет. Хочу сказать, что станка у него не было. Вот ты: умный человек, гораздо опытнее меня, ты можешь предположить, что розыски печатного станка, это ширма. Предлог. Обманное движение. Приманка, следуя за которой такие как мы, выполняем работу, о результатах которой даже не подозреваем. Я ни за что не поверю, что ты Паша, никогда не задумывался над этим вопросом.
– Э-ка тебя занесло, брат, – хмыкнул Павел Иванович, – Отчего подобные мысли в голову лезут? Уж не заболел ли? Наверное, заболел. Вижу – знобит.
Салтыков покачал головой.
– Прозрел я. Или устал. Сам не знаю. Раньше себя жалел, хныкал. Теперь – нет. Злоба какая-то появилась необъяснимая. Да не уходит, а копится. Вот смотрю я на человека, а вижу в нем лишь препятствие. Порою так и хочется на пустом, казалось бы, месте, какой-нибудь допросец с пристрастием учитить.



