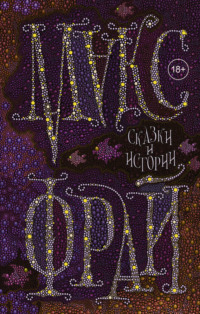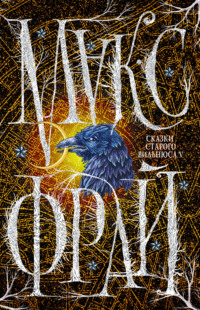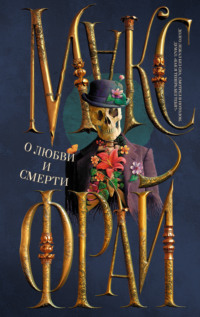Полная версия
Ключ из желтого металла
С тех пор Рената почти не изменилась, да и я, по правде сказать, остался при своем мнении – она неописуемо прекрасна, даже удивительно, как Небесная Канцелярия допустила, чтобы столь совершенное существо вот так запросто бродило среди нас.
– Фелечка, – басом говорит совершенное существо, – ты когда в последний раз ел? Только не ври, что на этой неделе.
– Вчера вечером, в поезде, какую-то бледную курицу, святая правда, жрал, как миленький, потом еще по тарелке хлебом мазал…
– Ладно, – вздыхает она, – поставим вопрос иначе. Когда ты ел в предпоследний раз?
А действительно, когда? Нет ответа.
– Одни скулы остались, и нос, с ним-то все в порядке, кажется, даже еще вырос, – влюбленно ворчит Рената, укладывая на тарелку омлет размером с Кафедральную площадь. – С чего это ты на всю зиму в Москве засел, даже на Рождество не приехал? Медом тебе там намазано?
– Намазано, – мрачно киваю я. – Не медом, какой-то другой дрянью, но намазано, факт. Смурной я в последнее время, а там это всем по барабану, в смысле, никому не мешает, вот я и…
– Очень разумно, – кивает Рената. – А еще разумнее было бы сразу повеситься. Чего тянуть?
– Просто я не ищу легких путей, – огрызаюсь.
На самом деле я, конечно, ломаю комедию, меня ужеотпустило, в этом доме меня всегда отпускает, прожив здесь несколько дней, я, чего доброго, снова начну врать себе, будто в человеческой жизни есть какой-то высший смысл, заранее содрогаюсь.
– Заметно, что не ищешь, – вздыхает Рената.
В отличие от Карла, которому нравится решительно все, что я делаю, Рената, я знаю, немного обижается, что я не живу вместе с ними. Пока я учился и работал, все было в порядке, в смысле, объяснимо: ребенка нет дома, потому что он занят делом, чего ж тут непонятного. Но с тех пор, как я осуществил мечту своего детства и стал умеренно богатым бездельником, ситуация изменилась. «У меня больше нет дел, препятствующих воссоединению с семьей, значит, – заключает Рената, – все дело в отсутствии желания». И это ей, конечно, неприятно. Я бы с радостью ее разубедил, да не умею, сколько раз уже пытался; впрочем, я всегда очень стараюсь, и сейчас еще раз попробую.
– Ты понимаешь, какое дело, – говорю. С набитым, между прочим, ртом, потому что никакой экзистенциальный ужас не в силах оторвать меня от Ренатиного омлета.
– Не понимаю. Сперва прожуй, – сердито отвечает она и тут же ласково улыбается, гладит меня по голове – дескать, молодец, продолжай в том же духе, лопай, пока дают.
У Ренаты легкий характер, она неспособна сердиться дольше нескольких секунд кряду. Я в детстве думал, все взрослые так устроены, и когда пошел в школу, ужасно удивился, обнаружив, что другие люди не столь отходчивы. Никак не мог взять в толк, зачем растягивать ссору надолго. Ну, рассердился один человек на другого, бывает, высказал недовольство и забыл – казалось бы, чего проще. Впрочем, я до сих пор так и не понял, зачем люди подолгу сердятся друг на друга. Жизнь и так непростительно коротка, ничего толком успеть невозможно, времени так мало, что, можно сказать, вовсе нет, даже если не тратить его на всякие глупости вроде ссор.
– Так что ты хотел сказать? – спрашивает Рената, разжигая огонь под чайником.
– Я хотел сказать, что ошибся, когда обеспечил себе возможность бездельничать. Осуществил золотую мечту человечества, думал, буду теперь вовсю наслаждаться жизнью. А вместо этого тупо сижу на заднице и размышляю о тщете всего сущего. Оказывается, если человека лишить необходимости восемнадцать часов в сутки бороться за выживание, он тут же начинает думать, зараза такая. По большей части, о смысле жизни, а такие размышления добром не заканчиваются. Не успеешь опомниться, а уже стоишь на краю мира, голенький, беззащитный и до отвращения невежественный, не понимая, что делать со всей этой сомнительной роскошью. Впрочем, может быть, это я один такой дурак, а все остальное человечество прекрасно справляется с сытостью и досугом, не знаю. Факт, что мне тошно, и чем дальше, тем хуже. Помнишь, какой я был угрюмый прошлым летом?
Рената сочувственно кивает, и я, выдержав эффектную паузу, говорю:
– Так вот, тогда я был веселый и жизнерадостный, если сравнивать с замороченным мрачным хмырем, которого ты сейчас зачем-то кормишь. Не хотел у вас в таком виде появляться, принц датский в доме хуже шкодливого кота, все углы своим смятенным духом провоняет, проветривай потом… Я бы и сейчас не приехал, если бы Карл не сказал, что дело есть. Дело – это святое. Особенно чужое, особенно когда своих уже давно нет.
– Очень хорошо тебя понимаю, – серьезно говорит Рената. – Сама так же маялась в твои годы. Впрочем, нет, вру, я постарше была, когда меня скрутило. Потому и уехала из дома. Так-то, на сторонний взгляд, жизнь у меня была хорошая, что называется, «как у людей». Все у меня было, только смысла в этом не было и не предвиделось. Совсем до ручки дошла, вот и устроила себе житейскую катастрофу, чтобы не удавиться в чулане. А потом занялась чужими делами – вашими с Карлом. И все как-то само собой наладилось.
– И жизнь обрела смысл? – спрашиваю недоверчиво.
– Да нет, конечно, – смеется. – С чего бы? Но мне больше не хочется удавиться в чулане. Только это и важно.
– Пожалуй, – растерянно соглашаюсь я. Хотя, на мой взгляд, просто не хотеть удавиться в чулане – это слишком мало, несерьезный жизненный итог, тем более для такого совершенного существа, как Рената. Вот мне, к примеру, удавиться вовсе не хочется, а толку-то? Впрочем, возможно, у меня еще все впереди. Оптимистический, черт побери, прогноз.
– Мне снова нравится сам процесс, – говорит Рената. – Чем дольше живу, тем больше нравится, хочешь верь, хочешь – нет. Хорошей погоды совершенно достаточно для счастья, а в плохую можно, к примеру, испечь яблочный пирог, – для пущей убедительности Рената вынимает пирог из духовки и принимается его резать. – И никакого дополнительного смысла не требуется, – заключает она. – Как в детстве.
Вот этого я как раз не понимаю совершенно. Хотя помню, конечно, как здорово было в детстве. Процесс бытия казался столь увлекательным, что никакого дополнительного смысла действительно не требовалось, тут не поспоришь.
– Значит, ты у нас мудрая, а я нет, – говорю, принимая из ее рук блюдо с пирогом.
– Ты мальчик, – вздыхает Рената. – У тебя, считай, никаких шансов. Я мудрых мальчиков вообще никогда не встречала, кроме Карла, конечно. Но он не в счет.
– Ну да, – смеюсь, – как-никак, сын Снежной Королевы.
– Почему это?
– Неужели он тебе не рассказывал? Бабушка Анна была судовым врачом, вечно по полгода в рейсе, а Карла оставляла с Фридой, ты же помнишь Фриду?
– Помню, конечно. Но Снежная Королева тут при чем?
– Карл вечно спрашивал, почему мама уезжает, не живет дома, как все остальные нормальные мамы. А Фрида, всегда ценившая вымысел превыше скучной правды, рассказала ему по большому секрету, что мама – Снежная Королева. Дескать, после того, как Кай сбежал, она решила, что, чем чужих детишек воровать, лучше завести собственного ребенка, и тогда родился Карл. Маме здесь очень жарко, но она так любит сына, что иногда все-таки приезжает и терпит жару. А забрать его к себе, понятно, не может, замерзнет он там, потому что родился не пингвином, не моржом, не белым медвежонком, а нормальным человеческим мальчиком, кто же знал, что так получится. Карл, понятно, поверил, а кто бы в пять лет не поверил? Тем более, ты же помнишь, какая у нас бабушка Анна была блондинка?
– Да уж, по сравнению с ней даже я – брюнетка, – смеется Рената. – И почти мулатка.
– Ну вот. Он лет до десяти верил, пока мама не застряла на берегу на целый год. Очень за нее переживал, особенно когда лето настало – как же она тут в такую жару? А потом в его душу постепенно начали закрадываться сомнения. Но, говорит, так и не решился спросить, не хотел подвести Фриду, вдруг она страшную тайну выдала? Поэтому вопрос, можно сказать, остался открытым. Я вот тоже думаю, мало ли? Такая наследственность многое объяснила бы.
– Что ты имеешь в виду? – нахмурилась Рената, на всякий случай приготовившись защищать Карла.
– Ну как – что? Отмороженный он у нас… Положи полотенце на место! В лучшем смысле этого слова. Сто лет со мной знакома, могла бы вспомнить, что это в моих… Ната, положи полотенце!..устах… Ай, не трогай меня!..комплимент. Знаешь такое русское слово – «ком-пли-мент»? Перевести?
Она все-таки шлепнула меня пару раз полотенцем, а я голосом Санта-Клауса из «Футурамы» констатировал: «Обижает сироту».
– Не такой уж ты и мрачный хмырь, – удовлетворенно заметила Рената. – Если лупить тебя почаще.
И тут зазвонил телефон. Мое буржуйское семейство оставило за собой оба телефонных номера, завоеванных в ходе вытеснения коренного населения с территории дома, и теперь общается, не утруждая себя ни криками, ни, тем более, беготней с одного этажа на другой.
– Конечно приехал, – сказала в трубку Рената, – куда он денется?.. Ну а как ты думаешь, что еще может так пахнуть? Я-то дам, а донесет ли – это еще вопрос.
Положила трубку, подмигнула мне.
– Вот так, только собралась как следует тебя отлупить, а Карл тут как тут. Проснулся, кофе, говорит, сварил, требует тебя и пирог. Отнесешь?
– На третий?
– Куда ж еще.
Они прекрасно поделили квартиру: Ренате достался весь первый этаж – с кухней, прачечной, несметным числом кладовых и чуланов, маленьким палисадником под кухонными окнами и видом на добрую дюжину вишневых деревьев из спальни. А Карл поселился наверху, у него там узкая солдатская кровать, комнатный орган, построенный его очередным гениальным приятелем по чертежам позитива восемнадцатого века, и толстенный слой звуконепроницаемых покрытий, который сообщает апартаментам гения неповторимый шарм палаты для буйнопомешанных. Второй этаж остается нейтральной территорией – в большой проходной комнате они изредка смотрят кино, играют в шеш-беш и принимают гостей, а в маленькой спальне с окном во всю стену живу я, когда приезжаю – в среднем выходит неделя в месяц, а то и больше; вернее, так было до тех пор, пока я не заперся на полгода в Пашкином загородном доме, как последний малахольный идиот.
И какого черта? – думаю я, поднимаясь по лестнице с блюдом, источающим неземной аромат Ренатиного пирога. – Ни у кого на свете нет дома, где так хорошо, а я, дубина, не пользуюсь.
– Эту девочку зовут Филомена Моретти. И она знает о счастье гораздо больше, чем весь остальной род человеческий, – говорит Карл, принимая из моих рук блюдо с пирогом и указывая подбородком на телевизионный экран, где симпатичная брюнетка извлекает из гитары какие-то неимоверно сложные комбинации звуков, кажется, одно из каприччо Паганини; впрочем, нет, не кажется, оно и есть. Номер двадцать четыре.
– Посмотри на ее лицо. Руки – ладно, есть и другие гитаристы с хорошей техникой. Но лицо! Ты когда-нибудь видел у людей такое выражение?
Карл, конечно, всегда готов сделать из мухи слона, ему только повод дай. Но, справедливости ради, следует признать, слоны удаются ему на славу, так что об исходных мухах и вспоминать не хочется. И лицо у гитаристки правда хорошее. Лично я душу продал бы за возможность ощутить переполняющую ее сдержанную, но упоительную – видно же! – радость. Однако покупатели под дверью что-то пока не толпятся.
– Хорошая, – соглашаюсь. – И ей хорошо. Как же ей хорошо!
– Ага, даже тебя проняло, – радуется Карл. – Ну и хватит пока.
Нажимает на пульт, прекрасная Филомена замирает на экране, и в комнате воцаряется полная тишина.
– Можешь открыть окно, – говорит Карл. – И садись к столу, я наливаю кофе.
Его стол – это отдельная песня. На самом деле это пианино, то есть, если быть совсем точным, пианино-стол, в начале девятнадцатого века такие многофункциональные штуки были в моде. Карл увидел одно из них, работы Леопольда Зауэра, в каком-то музее и захотел такое же, несколько лет за ним гонялся, наконец, нашел, потратил целое состояние, потом еще одно состояние – на реставрацию. Приволок вожделенное сокровище в дом и с тех пор использует как стол, письменный и обеденный одновременно, страшный бардак развел, между прочим, еще и газовую горелку в центре установил, чтобы кофе варить по утрам, не спускаясь в кухню. Такие горелки с баллончиками туристы обычно в походы берут, а Карл, кажется, дорожит ею больше, чем антикварным инструментом, говорит, горелка кардинально изменила его представления о жизни в целом и комфорте в частности.
Распахнув окно, я по пояс высовываюсь наружу и по-хозяйски озираю окрестности. Там истошно орут свихнувшиеся от весеннего солнца птицы и дети, где-то вдалеке звонко лает пес, зато автомобили помалкивают, улица короткая, тупиковая, нечего им здесь делать.
– Отвратительно выглядишь, – приветливо говорит Карл. – Ты что, бухал всю зиму?
– Ага. Страшно вспомнить. Три бутылки рома за шесть месяцев выдул – веришь, нет? С чаем, от простуды, которой заканчивалась каждая вылазка в Москву. К счастью, я туда редко ездил, а то, пожалуй, действительно спился бы, не травиться же аспирином… Тебе меня уже жалко?
– Нет повести печальнее. А такие роскошные мешки под глазами откуда?
– Как – откуда? Их на границе выдают. Всем, кто заснул под утро. А я, сам понимаешь, в первых рядах, все мешки мои.
– Да, ты шустрый, – рассеянно улыбается Карл. – Может, отпустить тебя досыпать?
– Ага, после твоего кофе. Ты лучше рассказывай, какое дело? Последний раз, когда ты говорил, что есть дело, речь шла об уборке моей комнаты; с тех пор, если не ошибаюсь, прошло лет двадцать… нет, вру, восемнадцать. Я уже извелся от любопытства. Хотя, конечно, есть версия, что это просто хитроумный способ выманить меня из норы. И правильно. Я уж сам не рад, что туда залез.
– Одно другому не мешает. Дело действительно есть. И выманить из норы тебя уже давно следовало. Чем ты там, кстати, занимался?
– Топил камин.
– Опять? – хмурится Карл. – Ну ты даешь. И хорошо горело?
– Превосходно, – вздыхаю. – Лучше просто не бывает.
«Топил камин» – сторонний наблюдатель решил бы, что это метафора, способ признаться: «Ни хрена я не делал, скучал, на стенку лез». Но Карл знает, о чем речь. Я всю зиму писал очередную книгу, закончил ее в марте и почти сразу уничтожил. Не потому что был недоволен написанным; напротив, мне кажется, я отлично справился. Я люблю и умею рассказывать истории, я в ладу с языком, хотя университетские преподаватели очень старались нас рассорить; впрочем, я быстро сбежал. Словом, я пишу неплохие книги, даже первый роман был ничего, а с тех пор я написал еще пять и многому научился, набил, так сказать, руку. Я уничтожаю написанное вовсе не потому, что недоволен собой – вполне доволен. Но просто написать качественный текст – слишком мало. И без меня куча народу так делает, число писателей скоро сравняется с числом читателей, слов, размноженных типографским способом, становится все больше, а ведь некоторые еще в Интернет свою писанину выкладывают, страшно вообразить.
Прежде чем начать суетиться с публикацией своей книги, я должен убедиться, что она нужна. Не мне и не читателям, которые, я не сомневаюсь, найдутся, дурное дело нехитрое, вон даже у сетевых графоманов есть свои поклонники, а –вообще. Настолько нужна, что реальность придет в движение, дивным образом переменится и примет экстренные меры, чтобы сохранить это бесценное сокровище. Иными словами, я всякий раз даю своим книгам шанс проявить волю к жизни, но ни одна из них его не использовала. Мои книги хороши, но, по большому счету, не жизнеспособны, а малый меня не интересует.
Дописав книгу, я распечатываю ее на принтере, а потом неторопливо, со вкусом сжигаю распечатку в камине, если он есть под рукой. Если нет, можно развести костер во дворе; собственно, три раза я именно так и поступал. Это не красивый жест «непризнанного гения», возжелавшего наказать жестокий мир, а просто первое предупреждение. Книга должна понять,что ее ожидает, и начать бороться за свою жизнь. Повернуть колесо судьбы таким образом, чтобы я не смог или не захотел приступить к следующему пункту программы.
Но они никогда не защищаются. Ничего не происходит – а ведь я не жду чудесных знамений, я готов обойтись без огненных словес в небесах и волхвов, рыдающих под дверью. Я бы вполне удовлетворился, скажем, телефонным звонком бывшего приятеля, который за годы разлуки стал директором издательского дома и теперь в поисках свежего материала обзванивает знакомых: «Старик, ты случайно не собираешься написать книгу, а то сейчас все пишут, вот я и подумал, вдруг ты тоже…» Впрочем, и это не обязательно, мне бы хватило автомобильной аварии – оказавшись в больнице с сотрясением мозга или переломом какой-нибудь полезной конечности, я бы понял, что книга оказалась достойным противником и сделала упреждающий ход, попыталась уничтожить меня, спасая свою шкуру. Не то чтобы я большой любитель больниц и переломов, но, случись со мной такая беда, я бы преисполнился уважения к своему созданию, а это дорогого стоит.
Но ничего подобного ни разу не произошло. И вообще ничего. Напротив, после того, как я сжигаю распечатку, моя жизнь становится на диво спокойной и размеренной, как эпизод из кинофильма «Татарская пустыня»[2], признанный чрезмерно скучным даже на фоне прочих, и безжалостно вырезанный при монтаже. Поэтому несколько дней спустя я сохраняю файл на каком-нибудь компактном носителе и удаляю его из компьютера. И из корзины тут же удаляю, ясное дело, настолько-то моей пользовательской грамотности хватает. Выждав еще несколько дней, я кладу в карман этот самый компактный носитель, сажусь за руль и еду куда-нибудь за город. В этот момент книге очень легко за себя постоять. Даже аварий не требуется, достаточно ниспослать мне сурового и неподкупного гаишника, или забавного попутчика, который расскажет поучительную историю, или взбалмошную попутчицу, которая втянет меня в какое-нибудь идиотское романтическое приключение. В конце концов, можно просто перекрыть трассу по прихоти очередного правительственного кортежа, я не безнадежно туп, я умею внимательно слушать реальность, когда она разговаривает со мной. Но реальность молчит, и я благополучно добираюсь до какого-нибудь живописного водоема, на дне которого находит последний приют горемычная дискета с файлом, а я возвращаюсь домой. Выждав еще несколько дней, я вызываю мастера и требую заменить жесткий диск моего компьютера. Да-да, в превосходном состоянии, спасибо, я в курсе, а теперь замените его, пожалуйста. Я не умею восстанавливать уничтоженные файлы, но знаю, что это теоретически возможно, поэтому иду на жертвы – мало того, что деньги трачу, еще и выгляжу как идиот; впрочем, я и есть идиот, чего уж там.
После церемонии погребения жесткого диска в ближайшем канализационном люке я говорю покойной книжке: «Ну и дура», – и с легким сердцем берусь за новую. Сразу, или какое-то время спустя – как получится.
Карл знает, чем я занимаюсь на досуге и как поступаю с горемычными рукописями. Я изложил ему свою теорию после того, как уничтожил первый роман. Тогда я вовсе не был уверен, что поступаю правильно, а в таких ситуациях лучшее средство – спор с достойным собеседником; оппонента, как правило, убедить не удается, зато самого себя – вполне, а мне того и требовалось. Карлу можно рассказать о чем угодно, он всегда готов с интересом слушать и спорить, но, чем бы ни закончился разговор, он никогда не мешает мне поступать по-своему.
А сейчас он говорит:
– Все-таки очень жаль, что ты ни разу не дал мне почитать. Думаешь, не понравится, заклюю? Зря. Когда это я тебя клевал?
– Не думаю. Скорее, боюсь, что тебе понравится. И ты меня отговоришь.
– Погоди, – хмурится Карл. – Но разве ты не этого все время ждешь? В смысле, что тебе, наконец, кто-то или что-то помешает.
– Ннну… да, – растерянно соглашаюсь я.
Я хочу сказать, что будет нечестно, если этим самым человеком окажется Карл. Получить помощь от него слишком просто. Ему нравится все, что я делаю, он всегда на моей стороне и всегда готов помочь. Быть сыном Карла – все равно что иметь полезные знакомства в Небесной Канцелярии. Но пользоваться этим преимуществом, решая по-настоящему важные вопросы, как-то… ну, нехорошо. У нас в классе училась дочка завуча, славная, кстати, была девчонка, но звезд с неба не хватала. Естественно, на всех экзаменах ей доставался единственный билет, на вопросы которого бедняжка могла хоть что-то ответить. Все это видели, все понимали, почему так, зла на нее не держали и даже не шибко завидовали, быть дочкой Ларисы Владимировны – то еще счастье. Но выглядело это, прямо скажем, некрасиво. Я так не хочу.
Но вместо того, чтобы все это сказать, я молчу как рыба. Потому что в глубине души сам страшно жалею, что не стал показывать свои книги Карлу. Все думал – вот если бы он сам попросил. А он тактично помалкивал. Мы, конечно, друг друга стоим, чего уж там.
– Помнишь анекдот про человека, который ежедневно молил Господа ниспослать ему выигрыш в лотерее? – спрашивает Карл.
– Ага. В конце концов, отверзлись небеса и Бог сказал ему: «Поц, купи билет!» Понимаю, почему ты спросил. Но знаешь что? На месте Бога я бы дал ему этот совет в первый же день. Чего тянуть?.. И только не говори, будто Богу в голову не пришло, что мужик такой болван. Он всеведущ. Должен понимать.
– А знаешь, ты прав. Я никогда не смотрел на проблему с такой точки зрения, – неожиданно согласился Карл. – Тем более что правило «лучше поздно, чем никогда» работает только в тех случаях, когда не слишком поздно.
– То-то и оно. Рассказывай лучше про свое дело. В смысле, про мое. Интересно же.
– Ключ, – сказал Карл. – Только не падай, кажется, нашелся ключ от двери в подвале.
– Нашелся? – недоверчиво переспросил я. – Ну ничего себе. Так не бывает.
– Не бывает. Но я почти уверен, что это он.
У Карла особые отношения с ключами. В смысле, он их коллекционирует с детства. Первый свой ключ он нашел, когда еще в школу не ходил. Обычный ключ от чужой квартиры, каких много, из тусклого желтого металла. Карл, начитавшийся сказок, решил, что ключ сделан из чистого золота, и приволок его домой; Фрида, непутевая институтская подружка его матери и лучшая в мире няня, с которой он тогда жил, не стала разочаровывать ребенка, предложила хранить ключ в специальной шкатулке – дескать, именно так и следует поступать с сокровищами. Постепенно в шкатулке появились и другие ключи, Карл то и дело их находил и волок домой, все подряд, невзирая на цвет металла, благо знал из книжек, что кроме желтого золота есть еще белое серебро и загадочная платина, которая вообще не пойми какого цвета, зато ценная чрезвычайно. Шкатулка быстро заполнилась трофеями, но тут Фрида купила на барахолке ветхий кованый сундучок – ясное дело, божилась, что пиратский – и Карл принялся собирать ключи с удвоенным рвением. К моменту поступления в консерваторию он был счастливым обладателем трех с лишним тысяч ключей и почти утратил интерес к детскому увлечению, но однажды полез с приятелями исследовать пустой, предназначенный на снос дом и нашел там удивительную штуковину, отдаленно напоминающую ключ, – стержень с бороздками на обоих концах. Заинтересовался, пошел в библиотеку, перерыл кучу книг, выяснил, что ему в руки попал двойной ключ-паспарту, изготовленный, самое позднее, в начале девятнадцатого века. Информации о ключах-курьезах, которой, по ходу дела, переполнилась его голова, хватило, чтобы снова разжечь угасший интерес. Так Карл стал настоящим коллекционером – не собирателем мусора, но охотником за сокровищами, Фрида как в воду глядела.
Сокровищ он собрал немало. Я ни черта в этом не понимаю, но время от времени делаю посильные вклады в его коллекцию – по большей части, подозреваю, фуфло, но пару раз мне везло. В частности, редчайший ключ-пистолет, который Карл датировал пятидесятыми годами позапрошлого века – моя находка, результат первой и последней вылазки на Парижский блошиный рынок. Голова у меня там разболелась страшно, как всегда случается в людных местах, но ключик цапнуть я успел. Еще бы отыскать мастера, способного привести его в рабочее состояние, но, боюсь, таких уж не осталось, хотя Карл не теряет надежды.
С годами Карл, как и следовало ожидать, снова охладел к своему собранию; еще удивительно, что он столько лет продержался в состоянии азартной алчности. И тут услышал от кого-то из приятелей душещипательную историю – дескать, потомки изгнанных из Испании в конце пятнадцатого века евреев до сих пор хранят ключи от своих тамошних домов. Карла почему-то проняло. «Какая стойкость, какой поразительный оптимизм, – говорил он, – пятьсот с лишним лет таскать за собой ключи от дома, из которого выгнали твою семью. И ведь ни тени надежды туда вернуться, а все равно».
Он бросился проверять, оказалось – да, действительно, исторический факт. Даже сейчас остались такие семьи, чтящие традиции. А некоторым не повезло с потомками, и их ключи давно уже гуляют по частным коллекциям. И те самые дома в Толедо и Лусене стоят до сих пор, не все, ясное дело, но многие – стоят. И, конечно, Карл возжелал во что бы то ни стало раздобыть ключ от одного из этих домов. А потом поехать в Испанию и отправиться по заранее известному адресу. Эта идея захватила его целиком.