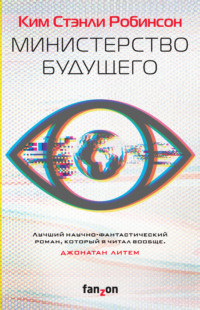Полная версия
Черный воздух. Лучшие рассказы
– Отчего бы не встать лагерем вон там? Мы с Брайаном рюкзаки сбросим и еще прогуляемся вдоль хребта. А Пит пусть отдохнет и, может, костер чуть попозже организует. Если хвороста сумеет найти.
С этим и Брайан, и Питер согласны. Все трое спускаются к будущему лагерю, в удобную седловинку.
Двое идут наверх. Одолеть пологий подъем не составляет труда, и вот они снова на гребне, на неровной тропе, усеянной осколками камня. Молнии и лед превратили голые скалы под ногами в мелкий щебень. Среди черного гранита там и сям возвышаются желтовато-бурые выступы, окруженные кольцами каменной крошки. Путники дивятся на эрратические валуны, словно бы покоящиеся на гребне хребта с тех самых времен, как он поднялся к небу, прыгают с камня на камень, поводят освобожденными от груза плечами. В очередной раз углядев вдалеке барана, Брайан указывает вперед.
– О! Видишь? – восклицает он.
– Еще бы, – отзывается Джо, но на барана не смотрит.
Заметив это, Брайан досадливо хмыкает.
Долина с востока темнеет, укрытая тенью хребта. В полудюжине ярдов за Брайаном Джо, прыгая с ровного на ровное, бубнит нараспев:
– Назови то, назови се, назови… назови-и-и… Ну и идея! Вот у меня на ногах три мозоли. Ту, что на левой пятке, я Амосом назвал.
Тут он умолкает, взбираясь на гранитный уступ по плечо высотой.
– А ту, что на правой, назвал Горбуном. А потом стер еще правую щиколотку спереди, и эту мозоль окрестил Ахиллом. И теперь, когда я их чувствую, это не боль, а что-то вроде шутки. Нытье в пятках, – продолжает он, шумно переводя дух, – будто приветы, приветы на каждом шагу: привет, Джо, это Амос; привет, Джо, Горбун здесь… Изумительно! Так мне, пожалуй, и башмаки ни к чему. Надо бы снять их!
– Не стоит. Лучше оставь, – без тени улыбки советует Брайан.
Джо улыбается от уха до уха.
Путь становится круче, гребень хребта сужается. Оба замедляют шаг, идут осторожнее. Россыпи щебня сменяются огромными щербатыми скальными выступами. Дальше приходится двигаться на всех четырех, оседлав хребет, точно лошадь: левая нога упирается в восточный склон, правая – в западный. Оба склона, особенно тот, что с запада, круто обрываются вниз. Западный, самый отвесный, блестит в лучах солнца, словно покрыт позолотой. Джо гладит ладонью стену обрыва.
Вскоре гребень снова становится шире, дальше вполне можно идти. Под ногами опять хрустит щебень. Угловатые, хрупкие пластинки камня сплошь поросли лишайником.
– Прекрасный гранит, – говорит Джо.
– Не гранит – диорит, – поправляет его Брайан. – Диорит, или габбро. Состоит из полевого шпата и еще кое-каких минералов более темного цвета.
– Э-э, ты мне голову не морочь, – откликается Джо. – Гранит помню, и хватит с меня. Вдобавок, эта штука была гранитом задолго до того, как геологи начали давать камням имена, и нечего им с именами такие шутки шутить.
Умолкнув, он приглядывается к камню поближе.
– Хотя… габбро, габбро… а что, пожалуй, мне это слово по вкусу.
Оба петляют среди валунов, взбираются на уступы. Под ноги им подворачивается глыба кварца, возвышающаяся над черным гранитом. Камень сплошь в трещинах, будто по вершине его ударили исполинской кувалдой.
– Розовый кварц, – поясняет Брайан и идет дальше.
Джо смотрит на глыбу кварца, разинув рот, опускается на колени, подбирает пару осколков, разглядывает их во все глаза, но тут замечает, что Брайан уходит вперед.
– Эх, знать бы мне все на свете, – поднимаясь, говорит он себе самому.
И вот они на вершине. Все вокруг – много ниже. Джо останавливается рядом с Брайаном. Оба молчат, замерев в считаных дюймах один от другого. К югу хребет понижается, а затем снова идет на подъем, к тому самому скальному лабиринту, которым они любовались, только-только поднявшись на гребень. Куда ни глянь, всюду горы, тянутся вдаль, разбегаются во все стороны света, каждый румб компаса украшают белые складки снегов. Не считая вольного ветра, все вокруг неподвижно.
– Интересно, куда тот баран подевался? – нарушает молчание Брайан.
Двое путников сидят на вершине горы. Порывшись в груде камней, Брайан извлекает на свет ржавую жестяную коробку.
– Ага! Не иначе баран нам подсказку оставил! – говорит он, извлекая из коробки клочок бумаги. – Имя свое вот тут написал, а зовут его… хм… Диана Хантер.
– Чушь собачья! – возмущается Джо. – Какое же это имя? Дай-ка взглянуть.
С этим он выхватывает коробку из рук Брайана, жестяная крышка отваливается, и целый вихрь клочков бумаги – штук десять, а то и двадцать, – подхваченный ветром, летит на восток. Джо достает из коробки листок, застрявший на дне.
– Роберт Спенсер, – читает он вслух, – 20 июля, 2014 год. Так это все имена… память о людях, поднявшихся сюда и решивших увековечить этакое достижение.
Брайан хохочет.
– Да кому же подобное взбредет в голову? Ведь до этого пика пешком дойти можно, – со смехом поясняет он.
– Наверное, надо бы собрать, сколько удастся, – неуверенно говорит Джо, взглянув вниз с отвесного склона вершины.
– Зачем? Ты же не сотрешь им памяти о восхождении, хоть все листки растеряй.
– Откуда нам знать, – возражает Джо и сам же смеется над собственными опасениями. – А вдруг? Подумать только: двадцать человек изо всех уголков Соединенных Штатов разом лишаются воспоминаний об этом пике! Раз – и… будто ветром все выдуло из головы. И до свидания…
С этим он машет рукой на восток. Оба смолкают. Ветер свистит в ушах. Над головой проносятся облака. Солнце склоняется к горизонту. Вскоре Джо нарушает молчание, горячо бормочет о чем-то, машет руками, а Брайан слушает друга, глядя облакам вслед.
– Ты, Джозеф, все равно, что родился заново, – наконец говорит он.
Джо, склонив голову на сторону, умолкает. Оба сидят, смотрят вдаль. Мало-помалу воздух становится холоднее.
– Ястреб, – негромко говорит Брайан.
Джо вслед за ним провожает взглядом темное пятнышко, вознесенное в небо воздушным потоком, струящимся вверх от хребта.
– Это тот самый баран, – возражает Джо. – Баран-оборотень.
– Да нет, даже движется по-другому.
– А я говорю, он.
Пятнышко, свернув к ветру, поднимается выше и выше, кружит, парит над миром, едва шевеля крыльями. Поддерживаемое восходящим потоком, оно на миг повисает над исполинским лабиринтом скал… и вдруг устремляется вниз, несется к земле куда быстрее падающего камня и исчезает за частоколом острых вершин.
– Ястреб, – выдыхает Джо. – Яс-стреб… с-с-спикировал…
Оба переглядываются.
– Туда-то мы завтра и пойдем, – говорит Брайан.
Устали оба так, что ноги не гнутся. Скользя вниз по снежным просторам, с каждым шагом одолевая по пять, а то и по десять футов, путники быстро добираются до лагеря. Идут как во сне: левой… правой… левой… правой… благо, что спуск несложен.
– А что же с тем снежным бараном? – спрашивает Джо. – Я ведь даже следов его ни разу не разглядел.
– Может, это была просто галлюцинация. Общая, – предполагает Брайан. – Как оно там у медиков называется…
– Симбиотический психоз.
– Ну и названьице…
Недолгая пауза: оба на прямых ногах, точно лыжники, съезжают с крутого снежного увала.
– Надеюсь, Пит позаботился костер развести. Дьявольский холод там, наверху.
– Особенность психического ландшафта, – говорит Джо, вновь затевая беседу с самим собой. – Ну, разумеется, отчего нет? Выглядел он примерно так, как я и ожидал, это уж точно. Неудивительно, что я путаю все на свете. Ты, вероятно, увидел мою мимолетную мысль, бежавшую на волю, в пустыню гор. Ну да, снежный баран…
Вскоре впереди, далеко внизу, среди скал, показывается седловинка, где оба оставили Питера. На дне ее мерцает желтая искорка.
Джо с Брайаном ревут от восторга.
– Огонь! ОГОНЬ!
Спустившись к песчаной россыпи среди высоких гранитных уступов, они приветствуют Питера и со всем проворством смертельно изголодавшихся бросаются к рюкзакам. Достав котелок, Джо доверху набивает его снегом и усаживается с Питером рядом.
– Долго же вас, ребята, не было, – замечает Питер. – Как там баран? Нашли?
Джо отрицательно качает головой.
– Нет, баран ястребом обернулся, – поясняет он, сдвигая котелок туда, где пламя повыше, и расшнуровывая башмаки. – Но как я рад, что ты костер сумел развести! Жуткое, небось, дело – на таком-то ветру.
– Да и с дровами тут не очень, – добавляет Питер. – Но я отыскал засохшее дерево чуточку ниже.
Джо хмурится, тычет прутиком пылающий сук.
– Можжевельник, – весьма довольный собой, говорит он. – Хорошее дерево.
Появляется Брайан. На нем стеганый пуховик, стеганые пуховые штаны и стеганые пуховые сапоги-«чуни». Питер мрачно молчит. Джо, взглянув на него, снова хмурится, с трудом поднимается, идет к рюкзаку, достает чуни, возвращается к костру и продолжает расшнуровывать башмаки. На его побелевших, сморщенных ступнях алеют мозоли.
– Скверно выглядят, – говорит Питер.
– Ничего страшного.
Жадно опорожнив котелок с растаявшим снегом, Джо набивает посудину новой порцией, возвращает ее на костер и натягивает чуни.
Все трое молча смотрят в огонь.
– Ребята, а помните, как вы в гостиной нашей квартиры бороться затеяли? – спрашивает Джо.
– Еще бы не помнить! Все бока тогда об этот ковер ободрали!
– И лампу разбили, хотя она так и так не работала…
– А после тобой овладело боевое безумие! – со смехом восклицает Брайан. – Безумие берсерка! И ты мне ухо чуть не отгрыз!
Все трое хохочут, и Питер, кивнув, улыбается, смущенный, но в то же время очевидно гордый собой.
– Пит тогда победил, – напоминает Джо.
– Это точно, – подтверждает Брайан. – Прижал меня лопатками к ковру… в данном случае к обычному, не к борцовскому. Маньяки всюду побеждают…
Питер тяжеловесно, солидно кивает, изображая официальное одобрение.
– Но вот сегодня мне бы тебя не победить, – признает он. – Совсем я из сил выбился. Не мое это, наверное, – прогулки по горам да ночлег на снегу.
– В те времена у тебя сил хватало, – уверяет его Брайан. – А сегодня ты, надо сказать, преодолел крайне нелегкий маршрут. Если честно, немногие из знакомых рискнули бы с нами пойти.
– А как же Джо? Он ведь большую часть прошлого года на спине провалялся.
– Да, но сейчас-то – вон, жмет вперед, как психованный!
– Психом я раньше был! – протестует Джо.
Все трое снова хохочут. Брайан сыплет в котелок макароны и усаживается на камень рядом с Питером, чтоб без труда дотянуться до варева. Оба заводят разговор о студенческих временах, когда все трое жили сообща. Заслушавшись, Джо улыбается и едва не опрокидывает свой котелок. Друзья разражаются возмущенными криками.
– Джозеф, – говорит Питер, – вот эта черная штука – котелок, а эта, желтая – огонь. Постарайся запомнить.
Джо улыбается шире прежнего. Вечерний бриз, подхватывая поднимающийся над котелками пар, несет его на восток.
Трое сидят у костра. Джо не спеша поднимается, осторожно идет к рюкзаку, разворачивает подстилку, достает спальный мешок, выпрямляется. Над западным горизонтом мерцает Венера. Темнеет. Старые друзья за спиной смеются над очередной репликой Питера.
На востоке небо усыпано звездами, хотя часть его еще светла, нежно-лазорева. В ушах негромко посвистывает ветер. Джо поднимает с земли камень, пристально вглядывается в него.
– Камень, – говорит он, сжимает камень в кулаке, грозит им Венере, запускает его ввысь. – Камень!
С этим он устремляет взгляд вдоль горного гребня: черные шипы драконьего хребта взламывают белизну и лазурь, точно сознание, выныривающее из хаоса, сплошной чередой тянутся вдаль…
– Эй, Джозеф! Раззява безмозглый!
– На землю вернись!
– И пригляди за своим котелком, пока он костер нам не загасил!
Джо, улыбаясь, идет к куче хвороста, подбрасывает в огонь дров, и желтое пламя, разгоняя сумрак, взвивается ввысь, к вечернему небу.
До того, как я проснусь
Перевод Д. Старкова
А потом он проснулся, и все это оказалось попросту сновидением.
Во сне Эбернети стоял на гребне хребта, круто обрывавшегося вниз. С хребта к ледниковому бассейну с небольшим озерцом – кобальтовым посредине, аквамариновым по краям – спускался длинный, отлогий язык каменной осыпи. Там и сям среди каменных просторов зеленели, точно газоны перед особняками сурков, яркие заплаты травянистых лугов. Деревьев нигде вокруг не имелось. Студеный воздух казался изрядно разреженным. Хребты гор тянулись вдаль на многие мили, и, несмотря на полную неподвижность пейзажа, во всем, в каждой мелочи, чувствовался колоссальный, немыслимого масштаба размах, словно порыв ветра всколыхнул в этом месте самую ткань бытия.
– Проснись же, чтоб тебе провалиться, – рявкнул кто-то.
От сильного толчка в грудь Эбернети кубарем покатился вниз по каменистому склону, увлекая за собой небольшую лавину, и…
Вокруг белели стены просторного зала. Повсюду, порой штабелями по пять-шесть ярусов, стояли аквариумы и террариумы самых разных размеров, и каждый из них служил спальней какому-нибудь животному – обезьянке, крысе, собаке, кошке, поросенку, черепахе, дельфину…
– Нет, – пролепетал Эбернети, пятясь назад. – Не надо, пожалуйста…
В зал вошел человек с густой бородой.
– Давай-давай, просыпайся, – бесцеремонно велел он. – Просыпайся, Фред, за работу пора. Работать, работать как можно усерднее, иначе надежды нет. Начнешь отрубаться – не поддавайся, держись!
Схватив Эбернети за плечи, бородач усадил его на ящик с белками.
– Слушай же! – заорал он. – Мы спим! Спим и видим сны!
– И слава богу, – откликнулся Эбернети.
– Не торопись! В то же время мы бодрствуем.
– Не верю.
– Еще как веришь!
С этим бородач швырнул в грудь Эбернети огромным рулоном графленой бумаги для самописца. Упав на пол, рулон развернулся. Бумагу сплошь покрывали какие-то черные закорючки.
– На нотную запись похоже. На партитуру, – безучастно заметил Эбернети.
– Да, Фред! Да! Очень удачно подмечено! – заорал бородач. – Это – симфония, исполняемая нашим мозгом! Вот скрипки жалобно ноют – это мы, мы, наше сознание, – пылко заговорил он, страдальчески сморщившись и крепко, обеими руками рванув себя за бороду. – И вдруг мелодия ниже, ниже, и – да, да, вот он, блаженный сон! А дальше, в ночи, призрачные валторны, гобои и альты тихонько вплетают в фон басовой темы собственные импровизации, тянут и тянут, пока вновь не заноют во весь голос скрипки… да, Фред, прекрасная, прекрасная аналогия!
– Спасибо, – поблагодарил его Эбернети, – только зачем так орать? Я – вот он, рядом.
– Ну, так проснись же, – зло зарычал бородач. – Не можешь, а? Попался? Играешь ту же новую песню, что и мы все! Гляди сюда: «быстрый сон» без разбору мешается с глубоким сном и с бодрствованием, превращая нас всех в лунатиков. В лунатиков, грезящих на ходу!
Взглянув в недра его бороды, Эбернети обнаружил, что все его зубы – резцы. Испуганный, он подался к двери, сорвался с места, со всех ног бросился прочь. Бородач, прыгнув следом, обхватил его, оба кубарем покатились по полу, и…
И Эбернети проснулся.
– Ага! – удовлетворенно воскликнул бородач, Уинстон, администратор их лаборатории. – Теперь-то веришь? – с горечью продолжал он, потирая ушибленный локоть. – Наверное, все это на стенах надо бы написать. Если все разом начнем отрубаться, ведь даже не вспомним, как да что было раньше. И вот тогда всему настанет конец.
– Где мы? – спросил Эбернети.
– В лаборатории, Фред, – устало, но терпеливо ответил Уинстон. – Теперь мы живем здесь. Помнишь?
Эбернети огляделся вокруг. Лаборатория. Огромная, прекрасно освещена. Пол устилают листы графленой бумаги с кривыми эхоэнцефалограмм. Из стен торчат черные плиты рабочих столов, заваленных самыми разными деталями и оборудованием. В углу – клетка с парой крыс.
Эбернети яростно замотал головой. Теперь-то он вспомнил все. Сейчас он бодрствует, однако тот самый сон оказался правдой. Застонав, он подошел к небольшому окну и выглянул наружу. Над простиравшимся внизу городом поднимался дым.
– Где Джилл?
Уинстон только пожал плечами. Оба поспешили к двери в дальнем углу лаборатории, в комнатку с множеством коек и одеял. Нет, и здесь ни души.
– Наверное, снова домой отправилась, – предположил Эбернети.
Уинстон встревоженно, досадливо зашипел.
– Я на территории поищу, – сказал он, – а ты лучше езжай домой. Да осторожнее там!
Но Фред уже выскочил за дверь.
Во многих местах улицы от края до края перегораживали остовы разбитых автомобилей, однако со дня последней поездки домой в городе мало что изменилось, и до дому Эбернети добрался довольно быстро. Пригороды сплошь затянуло удушливым маревом, вонявшим, точно дым из мусоросжигателя. Заправщик на АЗС, державшийся за рычаг помпы, проводил Эбернети изумленным взглядом и помахал ему вслед. Махать в ответ Эбернети не стал. Во время одной из подобных вылазок он едва не нарвался на удар ножом и повторять сей опыт отнюдь не желал.
Машину он остановил только у обочины напротив собственного дома. Вернее, развалин дома. Дом их сгорел подчистую: выше груди поднимался лишь закопченный дымоход.
Выбравшись из старенькой «кортины», Эбернети неспешно пересек лужайку, испятнанную черными кляксами отпечатков подошв. Откуда-то издали доносился неумолчный собачий лай.
Джилл оказалась на кухне – переставляла с места на место закопченную утварь, негромко напевая что-то себе под нос. Услышав шаги Эбернети, остановившегося прямо перед ней, в боковом дворике, она подняла на него взгляд, стрельнула глазами вправо-влево.
– Вот ты и дома, – радостно сказала она. – Как день прошел?
– Поедем-ка, Джилл, поужинаем где-нибудь, – откликнулся Эбернети.
– Но я ведь уже готовлю!
Переступив через остатки кухонной стены, Эбернети подхватил ее под локоть.
– Да, вижу. Но ты об этом не беспокойся. Поехали!
– Ну и ну! – воскликнула Джилл, гладя его по щеке измазанной сажей ладонью. – Да ты всерьез настроен на романтический вечер!
Эбернети изо всех сил постарался растянуть уголки рта пошире.
– И еще как! Идем.
Мягко увлекая Джилл за собой, он вывел ее из дома, провел через лужайку и усадил в «кортину».
– Какая галантность, – заметила Джилл, вновь стрельнув глазками.
Усевшись в машину, Эбернети включил зажигание.
– Но, Фред, – спохватилась жена, – а как же Джефф с Фран?
Эбернети отвернулся к боковому окну.
– Им нянька приглашена, – после недолгой паузы отвечал он.
Джилл, сдвинув брови, кивнула и откинулась на спинку сиденья. Ее пухлые щеки украшали полосы сажи.
– Ах, – вздохнула она, – мне так хотелось выбраться куда-нибудь на ужин!
– Мне тоже, – подтвердил Эбернети… и вдруг зевнул. Веки его разом отяжелели. – О нет! Только не это!
До боли закусив губу, он хлестнул тыльной стороной ладони о баранку руля… и снова зевнул.
– Нет! – заорал он.
Джилл, вздрогнув от неожиданности, вжалась спиной в пассажирскую дверцу. Эбернети резко вывернул руль, объезжая какую-то азиатку, усевшуюся прямо посреди дороги.
– Я должен добраться до лаборатории! – крикнул он.
Опустив противосолнечный козырек над водительским местом, Эбернети извлек из кармана куртки ручку и кое-как нацарапал на пластике: «В лабораторию». Тем временем Джилл не сводила с него изумленного взгляда.
– Я не виновата, – прошептала она.
Эбернети вывел машину на автостраду. Все тридцать полос оказались свободны, и он до отказа вдавил педаль в пол.
– В лабораторию, в лабораторию, в лабораторию, – нараспев затянул он.
Впереди на дорогу приземлился летучий полицейский автомобиль. Убрав крылья, патрульная машина рванулась вдаль. Эбернети последовал было за ней, но тут автострада свернула, сузилась, и они вновь оказались на уровне улиц. Зарычав от досады, Эбернети впился зубами в ладонь у основания большого пальца. Джилл еще крепче прижалась спиною к дверце. На глаза ее навернулись слезы.
– Я ничего не могла с собой поделать, – сказала она. – Понимаешь, он полюбил меня. А я полюбила его.
Эбернети гнал «кортину» вперед, вдоль объятых пожарами улиц. Ему очень, просто позарез нужно было на запад… однако машина вела себя как-то странно. Вскоре они выехали на трехполосную авеню, туда, где домов – раз, два и обчелся. Проезжую часть перегораживала поперек громада «Боинга 747» с надломленными, сложившимися вперед, к носу, крыльями. Сквозь его фюзеляж был прорублен высокий туннель, чтоб самолет не мешал движению. Дежуривший рядом коп со свистком, в белых перчатках, махнул им рукой, веля проезжать. На приборной доске тревожно замигала лампочка аварийного индикатора. «В лабораторию»… Эбернети судорожно всхлипнул.
– Но я же дороги не знаю!
Его сестра, Джилл, села прямо, устремив взгляд вперед.
– Налево, – негромко подсказала она.
Эбернети ударил по рычагу переключателя направлений, и машина послушно свернула на трассу, уходящую влево. Там, впереди, Эбернети поджидали другие развилки, но Джилл всякий раз подсказывала, куда нужно свернуть. Вдруг в зеркале заднего вида заклубился дым…
И Эбернети проснулся. Уинстон утер ватным тампоном капельку крови, алевшую на его плече.
– Стимуляторы и боль, – вполголоса пояснил Уинстон.
В стенах лаборатории кипела работа. Около дюжины лаборантов, постдоков и аспирантов у рабочих столов трудились, не покладая рук.
– Как Джилл? – спросил Эбернети.
– Прекрасно, прекрасно. Только сейчас она спит. Послушай, Фред, я нашел способ противостоять сну сравнительно долгое время. Стимуляторы и боль. Регулярные инъекции бензедрина плюс резкая боль каждый час или около, причиняемая любым способом, какой покажется самым удобным. Подхлестнутый всем этим, метаболизм не позволяет сознанию соскальзывать в сон наяву. Я пробовал и продержался шесть часов кряду: голова ясная, сна ни в одном глазу. Теперь этим методом пользуются все.
Эбернети окинул взглядом снующих туда-сюда лаборантов.
– Да уж, вижу, – сказал он, чувствуя, как быстро, отчетливо бьется сердце в груди.
– Ну, что же, за дело! – пылко воскликнул Уинстон. – Не будем терять времени даром!
Эбернети поднялся на ноги, и Уинстон созвал всех на непродолжительное совещание. Чувствуя на себе множество взглядов, Эбернети собрался с мыслями.
– Разум, мышление есть совокупность электрохимических процессов. Поскольку данному эффекту подвержены все до единого, полагаю, химическими аспектами мы вполне можем пренебречь, целиком сосредоточившись на электрических. Если все дело в изменении окружающих нас полей… кто-нибудь в курсе, сколько гауссов сейчас магнитное поле? А какова интенсивность космического излучения?
Но все только молча таращились на него.
– Ладно, – решил Эбернети. – Подключимся к мониторам орбитальной станции, а остальное проделаем здесь.
С этим он принялся за работу, и остальные тоже взялись за дело. Каждый час в лаборатории появлялся Уинстон с букетом шприцов в руке.
– Спиды, спиды, спиды-ы-ы! – с ухмылкой распевал он во весь голос.
Эбернети он уговорил капать на внутреннюю сторону предплечья соляной кислотой. Этот метод помогал Эбернети лучше, чем всем остальным. Целый день, а затем и другой он работал без остановки, на крекерах да воде, и сам вкалывал себе очередную дозу бензедрина, когда Уинстона не оказывалось под рукой. А вот ассистенты начали соскальзывать в сон наяву после первой же пары часов, несмотря на инъекции и кислоту. Розданных Эбернети заданий так никто и не выполнил. Один из лаборантов в качестве результата успешного эксперимента принес ему пару крыс, превращенных в сиамских близнецов, сращенных лапа к лапе, и как ни колотил его Эбернети, привести заснувшего в чувство не удалось.
В итоге он выполнил всю работу сам. Труд занял не один день. Лаборанты попадали с ног либо разбрелись кто куда, и Эбернети расхаживал от стола к столу, щурил саднящие, покрасневшие глаза, вглядываясь то в экран осциллографа, то в строки на дисплее компьютера. Никогда в жизни он еще так не уставал. Казалось, он сдает экзамены по дисциплине, в которой ничего не смыслит, в которой просто ни в зуб ногой, но работы Эбернети не оставлял. Между фазами бодрствования и «быстрого сна» ЭЭГ демонстрировали осцилляции, каких он никогда прежде не наблюдал, причем странные колебания кривых очевидно коррелировали с флюктуациями магнитного поля.
Некоторые, открыв глаза, непрестанно моргая, сидели на полу, пытались заговаривать друг с другом или с Эбернети. Как-то раз ему пришлось успокаивать Уинстона: тот, лежа посреди зала, неудержимо рыдал:
– Нам никогда не избавиться от этого сна наяву, Фред, никогда, никогда…
Вколотый Эбернети бензедрин на Уинстона не подействовал.
Так он и продолжал работу. Вспомнив о бензедрине, вкалывал себе очередную дозу и продолжал. Со временем выяснилось, что работать он может даже сидя за огромным столом, на ежегодной встрече бывших одноклассников… только устал – словами не описать.