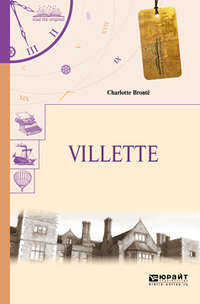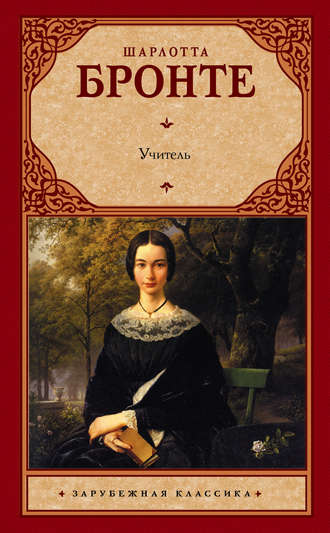
Полная версия
Учитель
Этот голос был мне знаком; когда он зазвучал во второй раз, я понял, кто ко мне обратился.
– Мистер Хансден! Добрый вечер.
– И верно, добрый! Но если бы я не проявил воспитанность и не заговорил первым, вы прошли бы мимо как ни в чем не бывало.
– Я вас не узнал.
– Извечная отговорка! Должны были узнать, ведь я же узнал вас, хоть вы и неслись, как паровая машина. За вами гонится полиция?
– Ей это ни к чему: для нее я мелкая сошка.
– Увы, бедный пастырь! Увы и ах! Обстоятельство, достойное сожалений, и судя по вашему голосу, как же вы пали духом! Но если не от полиции, тогда от кого же вы бежите? От сатаны?
– Наоборот, спешу к нему.
– Тем лучше, стало быть, вам повезло: сегодня вторник, вечером с базара в Диннефорд возвращаются вереницы телег и повозок, и в какой-нибудь из них наверняка занял место либо он сам, либо кто-нибудь из его свиты, так что если вы зайдете на полчаса в мою холостяцкую гостиную, то вскоре дождетесь, когда он будет проезжать мимо. Но думаю, вам будет лучше оставить его сегодня в покое – ему и без вас хватает забот: по вторникам он страшно занят в N. и Диннефорде… Словом, заходите.
С этими словами он открыл калитку.
– Вы вправду хотите, чтобы я зашел? – спросил я.
– Как вам будет угодно – я одинок, не откажусь провести в вашем обществе час-другой, а не хотите сделать мне одолжение, настаивать не стану. Докучать кому-нибудь – это не по мне.
Принять приглашение я был так же не прочь, как Хансден – высказать его. Я вошел в калитку и последовал за ним к дверям дома, которые он открыл передо мной, далее мы пересекли коридор и ступили в гостиную. Закрыв дверь, Хансден указал мне на кресло возле камина, я сел и осмотрелся.
Комната была уютная, одновременно удобная и красивая, за каминной решеткой пылал настоящий энширский огонь – алый, чистый, жаркий, а не скупая южноанглийская кучка углей в углу. Лампа под абажуром на столе давала мягкий, приятный, ровный свет; мебель казалась почти роскошной для молодого холостяка и состояла из дивана и двух удобнейших кресел; книжные полки заполняли ниши по обе стороны от камина; мебель содержалась в полном порядке. Опрятность гостиной пришлась мне по вкусу, беспорядка и небрежности я не терплю. То, что я видел, свидетельствовало, что в этом вопросе наши с Хансденом взгляды совпадают.
Пока Хансден убирал со стола на буфет несколько брошюр и журналов, я оглядел ближайшие ко мне книжные полки. На них преобладали французские и немецкие книги: старые французские драматурги и разнообразные современные авторы – Тьер, Вильмен, Поль де Кок, Жорж Санд, Эжен Сю, из немецких – Гете, Шиллер, Цшокке, Жан Поль, из английских – сочинения по политэкономии. На этом мое беглое знакомство с библиотекой прервалось: меня отвлек мистер Хансден.
– Непременно выпейте что-нибудь, – заговорил он, – это вам не повредит после неизвестно насколько долгой прогулки в столь холодную ночь. Только не разбавленного коньяка, не портвейна и не хереса – такой отравы у меня нет. Сам я пью рейнвейн, а вы можете выбрать между ним и кофе.
И в этом Хансден сумел угодить мне: если и существует общепринятый обычай, который ненавистен мне более всех прочих, так это употребление крепкого спиртного и вина. Кислый немецкий напиток меня не прельщал, а кофе я любил, поэтому ответил:
– Позвольте мне кофе, мистер Хансден.
Я заметил, что он остался доволен моим ответом: несомненно, он рассчитывал вызвать у меня досаду, объявив, что не даст мне ни крепкого спиртного, ни вина, и на всякий случай испытующе взглянул мне в лицо, выясняя, искренне я говорю или только притворяюсь учтивым. Я улыбнулся, потому что понял его, и если его непреклонность вызвала у меня прилив уважения, то недоверчивость позабавила. Удовлетворившись, Хансден позвонил и велел принести кофе мне, а ему – гроздь винограда и полпинты напитка покислей. Кофе оказался превосходным, о чем я заявил и признался, что скромный стол хозяина вызвал у меня прилив сочувствия. Хансден не ответил и, похоже, не услышал меня. Как раз в тот момент по его лицу прошла тень, погасила улыбку, а обычно проницательный и насмешливый взгляд стал отрешенным и рассеянным. Я воспользовался молчанием, чтобы наскоро рассмотреть лицо Хансдена. Вблизи я еще ни разу не видел его, и поскольку я близорук, то имел лишь общее смутное представление о том, как он выглядит. Теперь же, присмотревшись, я поразился его мелким и даже женственным чертам, его рост, длинные темные волосы, голос, манера держаться, казалось бы, внушали мысли о властности и силе, но нет – даже мои собственные черты лица были отлиты в форме с более резкими и угловатыми очертаниями. Я рассудил, что в нем сосуществуют два разных человека, и не просто сосуществуют, но и спорят, причем силы воли и честолюбия в нем больше, чем мускулов и жил в его теле. Возможно, причиной его приступов мрачности и была несочетаемость «физического» и «нравственного»; он и хотел бы, да не мог, и его развитый ум презирал своего слабосильного соседа. Чтобы судить о привлекательности, мне следовало обратиться к мнению женщины: по-видимому, на дам его лицо должно было производить такое же впечатление, как пикантное, необычное, хотя едва ли миловидное женское лицо – на мужчин. Его темные волосы я уже упоминал – разделенные на косой пробор, они открывали белый, весьма широкий лоб; румянец на щеках казался несколько лихорадочным; его черты лица неплохо смотрелись бы на полотне, посредственно – в мраморе: они были податливы, характер наложил отпечаток на каждую, выражение лица меняло их по своему желанию, и эти странные метаморфозы придавали ему вид то угрюмого быка, то лукавой и проказливой девчонки, но чаще они сливались, образуя причудливое, неопределенное среднее.
Очнувшись от задумчивости, он заявил:
– Уильям, глупо это с вашей стороны – ютиться в конуре у миссис Кинг, когда можно снять комнаты здесь, на Гроув-стрит, и жить в доме с садом, как у меня!
– Отсюда слишком далеко до фабрики.
– И что с того? Вам полезно прогуляться туда-сюда два-три раза в день. Или вы уже ископаемое и вам не в радость смотреть на цветы и листву?
– Я не ископаемое.
– А кто же еще? Вы просиживаете в конторе у Кримсуорта день за днем, неделю за неделей, скребете пером по бумаге, как механизм, не вставая с места, никогда не жалуетесь на усталость и не просите отпуска, не меняете занятий и не отдыхаете, даже по вечерам не даете себе воли, вас не увидишь в веселой компании, вы не пьете спиртного.
– В отличие от вас, мистер Хансден?
– Не надейтесь отделаться встречными вопросами, наши с вами случаи прямо противоположны, сравнивать их попросту нелепо. И действительно: когда человек покорно терпит то, что вытерпеть нельзя, он окаменел, как ископаемое.
– Откуда такие познания о моем терпении?
– А вы что же, возомнили себя загадкой? В гостях удивились, что я знаю, из какой вы семьи, теперь удивляетесь, что я назвал вас терпеливым. Думаете, у меня нет ни глаз, ни ушей? Я не раз видел у вас в конторе, как Кримсуорт помыкает вами: просит, к примеру, подать книгу, а если вы ошиблись или если ему угодно считать, что вы ошиблись, швыряет книгу вам в лицо, гоняет открывать или закрывать двери, словно прислугу; не говоря уже о том, в какое положение поставил вас на званом вечере месяц назад, где вам не нашлось ни места, ни пары и где вы маялись, как незваный гость. А вы ни разу не потеряли терпения!
– Что же дальше, мистер Хансден?
– Этого я вам не скажу; выводы о вашем характере можно сделать, зная, чем вы руководствуетесь в своем поведении. Если вы терпите потому, что надеетесь в конце концов извлечь пользу из работы на Кримсуорта, несмотря на его деспотизм, а может, и благодаря ему, – весь мир назовет вас корыстным и меркантильным, но, возможно, на редкость умным человеком; если вы терпите потому, что считаете своим долгом покорно сносить оскорбления, – вы безнадежный болван и никчемный человечишка; если же вы терпите потому, что по натуре флегматичны, вялы, равнодушны и вообще не способны сопротивляться, значит, Бог сотворил вас, чтобы уничтожить, так что лежите себе, лежите и ждите, когда вас раздавит слепая сила!
Нетрудно заметить, что ни гладким, ни угодливым красноречие мистера Хансдена не было. Чем дольше он рассуждал, тем меньше мне это нравилось. Пожалуй, он принадлежал к тем натурам, которые, будучи достаточно ранимыми, в своем эгоизме безжалостно ранят чужие чувства. Более того, ни на Кримсуорта, ни на лорда Тайндейла он не походил, тем не менее был язвителен и, как мне казалось, высокомерен: деспотизм чувствовался даже в настойчивости упреков, с помощью которых он побуждал угнетенного взбунтоваться против угнетателя. Впервые за все время присмотревшись к нему как следует, я разглядел в его глазах и выражении лица решимость посягать на свободу без границ, вплоть до ущемления свободы ближнего. Все эти мысли, промелькнувшие в голове, и сделанный благодаря им вывод о людской непоследовательности невольно вызвали у меня негромкий смех. Дальше все вышло так, как я и предвидел: Хансден, который ожидал, что я безропотно снесу его несправедливые и оскорбительные предположения, его резкие и высокомерные попреки, сам был уязвлен этим смешком не громче шепота.
Он помрачнел, раздувая тонкие ноздри.
– Да, – продолжал он, – я уже говорил вам, что вы аристократ – кто, как не аристократ, способен на такой смех и такой взгляд? Смех холодный и язвительный, взгляд томно-своевольный – ирония джентльмена, негодование патриция. Какой сановник вышел бы из вас, Уильям Кримсуорт! Для того вы и созданы; жаль, что Фортуна воспрепятствовала Природе! Взгляните только на эти черты, фигуру, даже на руки – отличие во всем, неприглядное отличие! О, будь у вас только поместье и особняк, и парк при нем, и титул, как бы вы кичились своей исключительностью и отстаивали права своего сословия, как прививали бы своим арендаторам почтение к знати и препятствовали на каждом шагу стремлению народа к власти, как поддерживали бы свой прогнивший порядок и были готовы ради него по колено утопать в крови простолюдинов! Но власти у вас нет, вы ни на что не способны, вы – обломок кораблекрушения, прибитый к берегам коммерции и вынужденный иметь дело с практичными людьми, с которыми вам не совладать, ибо коммерсантом вы не станете никогда.
Поначалу речь Хансдена нисколько не задела меня, а если и задела, то лишь удивив прихотливым поворотом, который придала предвзятость его суждениям о моем характере, но заключительная фраза меня потрясла. Она нанесла сокрушительный удар, поскольку стала оружием в руках Истины. Если я и улыбался в тот момент, то лишь от презрения к себе.
Хансден заметил свое преимущество и не преминул ухватиться за него.
– Этим ремеслом вы ничего не наживете, – продолжал он, – ничего, кроме сухой корки хлеба и воды, которыми довольствуетесь теперь; ваш единственный шанс обрести достаток – жениться на богатой вдове или сбежать с наследницей.
– Пусть этими уловками пользуются те, кто их выдумывает, – ответил я и поднялся.
– Но и на такой исход надежды мало, – невозмутимо продолжал он. – Какая вдова на вас польстится? А тем более наследница? Для одной вы недостаточно смелы и предприимчивы, для второй – не настолько обаятельны и хороши собой. А если вы рассчитываете на свой лощеный и ученый вид, отнесите свою утонченность и образованность на рынок, только не забудьте сообщить мне потом, сколько за них дали.
Мистер Хансден задал тон вечеру; струна, которую он дергал, звучала фальшиво, но к другим он не прикасался. Испытывая отвращение к разладу, с которым и без того приходилось мириться изо дня в день, я наконец решил, что молчание и одиночество предпочтительнее режущих слух речей, и пожелал хозяину дома спокойной ночи.
– А, уходите, юноша? Ну что ж, спокойной ночи: дверь ищите сами.
Он остался у камина, а я покинул комнату и дом. Я уже преодолел часть обратного пути, прежде чем заметил, что иду слишком быстро, дышу с трудом, сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони, и стискиваю зубы; обнаружив все это, я замедлил шаг, расслабил кулаки и челюсти, но так же быстро остановить нарастающий прилив сожалений не удалось. Зачем я занялся коммерцией? Почему зашел к Хансдену сегодня вечером? Ради чего завтра рано утром мне опять идти на фабрику к Кримсуорту? Всю ночь я задавался этими вопросами, всю ночь настойчиво требовал от себя ответа. Я так и не уснул, голова горела, ноги стыли; едва зазвонил фабричный колокол, я вскочил, подобно другим рабам.
Глава 5
Во всем есть своя наивысшая точка, во всяком состоянии, чувстве и жизненных обстоятельствах. Об этой прописной истине я задумался, пока ранним морозным январским утром спешил по заледеневшей улице, круто спускавшейся от дома миссис Кинг к Бигбен-Клоузу. Фабричный люд опередил меня почти на час, и к тому времени, как я достиг конторы, фабрика уже была ярко освещена, работа шла полным ходом. Как обычно, я занял свое место в конторе; огонь там был разожжен, но еще не разгорелся, а только дымил; Стейтон пока не появлялся. Я закрыл дверь и сел за конторку; руки, недавно вымытые ледяной водой, еще не согрелись, писать я пока был не в силах, поэтому продолжал думать о все той же наивысшей точке. Острое недовольство собой нарушало течение моих мыслей.
«Итак, Уильям Кримсуорт, – сказала мне совесть – или иной голос, который звучит в нас, призывая к ответу, – итак, разберись наконец, чего тебе хотелось бы и чего не хочется. Кстати, о наивысшей точке: скажи на милость, неужели твоя стойкость ее уже достигла? А ведь не прошло и четырех месяцев. Как ты гордился собой, когда объявил Тайндейлу, что намерен пойти по стопам отца, каким славным представлялся тебе этот путь! Как нравится тебе в N.! Сколько приятных воспоминаний уже связано у тебя с его улицами, лавками, складами и фабриками! Как радует тебя предстоящий день! Копии писем до обеда, обед в пустой комнате, копии писем до вечера, одиночество, ибо общество Брауна, Смита, Николла и Экклса не доставляет тебе удовольствия, а что касается Хансдена, тебе уже представился случай лишиться его общества – хе-хе! И каким он показался тебе на вкус вчера вечером? Сладким? Даже этому одаренному, незаурядно мыслящему человеку ты неприятен, а тебе мешает испытывать к нему симпатию твое самолюбие; он всегда замечал твои недостатки и будет замечать их впредь; вы в неравном положении, и даже если бы вы стояли на одной ступени, вам никогда не стать единомышленниками – следовательно, не надейся собрать мед дружбы с этого колючего кустарника. Э-э, Кримсуорт, куда это тебя занесло? От воспоминаний о Хансдене ты полетишь, как пчела от камня, как птица из пустыни, твои стремления радостно расправят крылья, обратившись к стране мечтаний, где в разгорающемся – здесь, в N., – свете дня ты смеешь грезить о душевном родстве, покое, единении. Как и ангелов, в этом мире их не увидишь. Возможно, духи праведников, достигших совершенства[4], и обретут их на небесах, но твоему духу совершенства никогда не достичь. Восемь часов! Руки согрелись, приступай к работе!»
«К работе? Но зачем? – угрюмо возразил я. – Я никого не обрадую даже каторжным трудом».
«Работай, работай!» – подгонял внутренний голос.
«Можно и поработать, только толку от этого не будет», – проворчал я, но все-таки достал кипу писем и занялся своим делом, столь же неблагодарным и горьким, как труд сынов Израилевых, ползавших по выжженным солнцем полям Египта в поисках соломы и жнива, дабы сделать урочное число кирпичей[5].
Часов в десять я услышал, как во двор въехала двуколка мистера Кримсуорта, через минуту он вошел в контору. Обычно он, взглянув на Стейтона и на меня, вешал свой макинтош, некоторое время грелся у огня, повернувшись к нему спиной, а потом уходил. Этим привычкам он не изменил и сегодня, только взгляд, направленный на меня, был другим, не холодным, а яростным, брови не просто сведены, а мрачно насуплены. На меня он смотрел дольше, чем обычно, но ушел, не сказав ни слова.
Пробило двенадцать, колокол возвестил перерыв, рабочие разошлись обедать. Ушел и Стейтон, поручив мне запереть контору и забрать ключи с собой. Я перевязывал пачку бумаг и убирал их на место, готовясь запереть конторку, когда в дверях вновь появился Кримсуорт. Он вошел и прикрыл дверь за собой.
– Задержитесь на минуту! – грубо бросил он мне, раздувая ноздри. В его глазах горел зловещий огонек.
Наедине с Эдвардом я вспомнил, что мы родственники, а вспомнив, предпочел забыть о разнице в положении, о почтительности и вежливой речи и ответил просто и коротко:
– Пора домой, – и повернул ключ, запирая конторку.
– Останьтесь! – снова велел он. – Не троньте ключ! Оставьте его в замке!
– Почему? – спросил я. – Зачем мне менять планы?
– Делайте что велено, – был ответ, – и без вопросов! Вы мой слуга, повинуйтесь мне! Что это вы затеяли?.. – на одном дыхании продолжал он, как вдруг пауза возвестила, что гнев лишил его дара речи.
– Посмотрите, если хотите, – ответил я. – Конторка не заперта, бумаги в ней.
– Чертов наглец! Что вы тут устроили?
– Выполнял вашу работу, притом добросовестно.
– Болтун и лицемер! Слюнтяй, льстец, масляный рожок!
(Последнее выражение, подразумевающее «подхалим», – полагаю, исключительно энширского происхождения, – означает рожок с черной прогорклой ворванью, который привязывали к колесам телег для их смазки.)
– Довольно, Эдвард Кримсуорт! Пора нам с вами подвести итоги. Я отслужил вам уже три месяца и понял, что более омерзительного рабства не видел свет. Ищите себе другого клерка, а я здесь не задержусь.
– Что?! И вы посмели открыто заявить об этом? Ну что, сейчас получите то, что заработали! – И он сдернул со стены прочный хлыст, висевший рядом с макинтошем.
Я позволил себе рассмеяться с презрением, которое не удосужился умерить или скрыть. В нем вскипела ярость, он выпалил полдюжины вульгарных, нечестивых ругательств, но, так и не пустив хлыст в ход, продолжал:
– Я раскусил вас, теперь я знаю, какой вы плаксивый льстец! Как вы меня ославили на весь N.? Отвечайте!
– Ославил? Вас? У меня нет ни причин, ни желания говорить о вас.
– Лжете! Вы только и болтаете, что обо мне, только и жалуетесь на то, что якобы терпите от меня. Вы повсюду раззвонили о том, как мало я вам плачу и шпыняю вас, как собаку. Да будь вы собакой, я с места бы не сошел, пока сию минуту не спустил бы с вас шкуру вот этим хлыстом!
Он потряс своим оружием, кончик хлыста задел мне лоб. Горячий трепет возбуждения пробежал по моим жилам, кровь словно отхлынула, а потом устремилась по прежнему руслу. Я легко вскочил и подступил к брату.
– Брось хлыст! – потребовал я. – И сейчас же объясни, в чем дело.
– Э, ты с кем это разговариваешь?
– С тобой. По-моему, больше здесь никого нет. Говоришь, я клевещу на тебя, жалуюсь на ничтожную плату и плохое обращение? Чем ты это докажешь?
Достоинство Кримсуорт уже утратил, а когда я строго потребовал объяснений, его голос стал громким и визгливым:
– Сейчас узнаешь! Только выйди на свет, чтобы я видел, как краска стыда зальет наглую физиономию, когда я докажу, что ты вправду лжец и лицемер. Вчера на собрании городского совета мой оппонент по вопросу, который там обсуждался, оскорбил меня намеками на мои личные дела, во всеуслышание порицая бездушных чудовищ и домашних тиранов, продолжая нести подобную чушь. Когда же я поднялся, чтобы ответить, меня заглушили крики какого-то грязного сброда, и, случайно услышав твое имя, я наконец понял, откуда ветер дует. Я осмотрелся и заметил, что роль зачинщика играет этот предатель и негодяй Хансден. Я видел, как месяц назад в моем доме ты увлеченно беседовал с Хансденом, мне известно, что вчера вечером ты был у него в гостях. Только попробуй заявить, что это не так!
– И не подумаю. А если Хансден и подзуживал людей освистать тебя, то правильно делал. Ты заслуживаешь публичного осуждения, ибо трудно представить себе человека менее достойного, хозяина более сурового и брата более жестокого, чем ты.
– Э-э! – снова возмутился Кримсуорт и в подкрепление своего возгласа щелкнул хлыстом прямо над моей головой.
Минуты не понадобилось, чтобы вырвать у него хлыст, сломать пополам и швырнуть в огонь. Очертя голову Эдвард ринулся на меня, но я уклонился и заявил:
– Попробуй только тронь, и я подам на тебя в ближайший суд!
Когда людям вроде Кримсуорта противостоят решительно и невозмутимо, они неизменно растрачивают свое непомерное чванство: суд не входил в намерения Эдварда, однако он понял, что я шутить не намерен. Смерив меня диким и долгим взглядом, одновременно мрачным и удивленным, он, видимо, наконец сообразил, что деньги обеспечивают ему достаточное преимущество над нищим вроде меня и дают более надежный и достойный способ отомстить, нежели собственноручное, но опасное наказание.
– Забери свою шляпу, – велел он. – Забирай все, что тут есть твоего, и вон отсюда – ступай к таким, как ты, нищим, проси милостыню, воруй, голодай, попадай в тюрьму и на каторгу, живи как знаешь, но если снова попадешься мне на глаза – пеняй на себя! Если услышу, что твоя нога побывала хоть на дюйме моей земли, найму человека, чтобы отходил тебя палкой.
– Об этом можешь даже не мечтать: если уж я вырвусь отсюда, думаешь, хоть чем-нибудь можно будет заманить меня обратно? Я покидаю тюрьму и тирана, оставляю то, хуже чего уже не будет и не может быть, так что не бойся, я не вернусь.
– Вон, или я выкину тебя! – взорвался Кримсуорт.
Намеренно неторопливо я прошел к своей конторке, вынул из нее все, что мне принадлежало, положил в карман, запер конторку и ключ положил на нее.
– Что ты взял из ящика? – потребовал ответа хозяин конторы. – Оставь все на месте, или я позову полисмена, чтобы он тебя обыскал.
– Беги, зови, – отозвался я, взял шляпу, надел перчатки и неторопливо покинул контору, чтобы больше туда никогда не возвращаться.
Помню, когда фабричный колокол прозвонил обед – еще до появления мистера Кримсуорта и до скандала, – меня мучил острый аппетит, и я с нетерпением ждал, когда смогу уйти обедать. Но теперь про обед я даже не вспоминал: душевные волнения, вызванные событиями последнего получаса, вытеснили видения жареной баранины с картофелем. Мне хотелось только прогуляться, привести мышцы в состояние гармонии с нервами, и я быстро уходил все дальше. А разве могло быть иначе? Камень упал с моей души, мне стало легко и свободно. Я покидал Бигбен-Клоуз, не утратив решимости; моему достоинству не было нанесено ни малейшего урона. Не я пересилил обстоятельства – обстоятельства освободили меня. Мне вновь открылась жизнь, ее горизонты больше не заслоняла высокая черная стена, окружающая фабрику Кримсуорта.
Прошло два часа, прежде чем мое волнение наконец улеглось, я успокоился и заметил, насколько обширнее и светлее мир, ради которого я отказался от закопченного ошейника. Подняв голову, я вдруг узрел прямо перед собой Гроувтаун – скопление загородных домов милях в пяти от N. Судя по низкому солнцу, короткий зимний день уже близился к концу; морозный туман поднимался над рекой, на которой стоит N. и вдоль берега которой проложена дорога, выбранная мной; этот туман укрывал землю, но не мог замутнить льдистую голубизну январского неба. Повсюду вблизи и поодаль царило безмолвие; час дня был благоприятен для спокойствия – людей на улицах не было, рабочий день на фабриках еще не закончился; в воздухе разносился лишь шум свободно текущей реки, глубокой и полноводной после недавних снегопадов. Некоторое время я постоял, прислонившись к церковной ограде и глядя на воду, на стремительно набегающие волны. Мне хотелось, чтобы эта сцена отчетливо и надолго запечатлелась в памяти, чтобы в будущем я мог дорожить ею. В гроувтаунской церкви пробило четыре; подняв голову, я увидел, как просвечивает красным сквозь голые ветки древних дубов вокруг церкви заходящее солнце, и эти лучи расцветили пейзаж, сделали его именно таким, как я и мечтал. Я помедлил еще минуту, пока не затих в воздухе благозвучный и размеренный звон колокола, а потом, насытив зрение, слух и чувства, повернулся от ограды в сторону N.
Глава 6
В город я вернулся голодным; забытый обед соблазнительно всплывал в памяти, и острый аппетит гнал меня вверх по узкой улочке к дому. Было уже темно, когда я шагнул через порог, гадая, разведен ли у меня огонь; ночь выдалась холодной, и я передергивался при мысли об очаге, полном холодной золы. К своему радостному удивлению, в гостиной я обнаружил жаркий огонь в вычищенном очаге. Но отметить эту неожиданность я едва успел, потому что нашел причину удивиться еще раз: кресло, в котором я обычно сидел перед камином, было уже занято, человек в нем скрестил руки на груди и вытянул ноги на ковре. Каким бы близоруким я ни был, каким бы обманчивым ни казался отблеск огня, мне не понадобилось долго всматриваться, чтобы узнать в этом человеке мистера Хансдена. Разумеется, его появление не доставило мне удовольствия, особенно после нашего расставания накануне, поэтому я, пройдя к камину и разворошив угли, произнес «добрый вечер» так негостеприимно, как только мог; однако про себя я гадал, что привело его сюда, а еще – чем вызвано его столь живое вмешательство в мои отношения с Эдвардом. Видимо, именно Хансдену я был обязан своим желанным увольнением, тем не менее я не мог заставить себя расспросить его, выказывая любопытство: пусть объяснится, только если захочет сам, ведь первый шаг тоже сделал он.