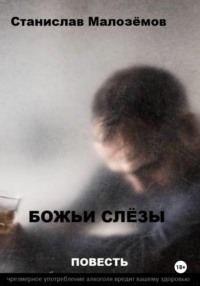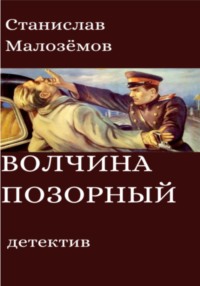полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
– Не…– дядька сунул обрез обратно.– Я инкассатор. Машина инкассаторская. Деньги возим с бухгалтером в город в банк. Потом из города наличные в мешке везём. Зарплаты и ещё на фигню всякую. На государственные наличные траты, короче. Давайте, развязывайте ремешки и мухой в салон.
Тронулись. Лыжи мы уложили аккуратно на пол салона. Сели на свободные сиденья и палки держали между ног.
– А вы как вчера могли в воинскую часть попасть? Да ещё пёхом. Ну, на лыжах. Одинаково почти. Вчера по степи ураган прошел часов с пяти до девяти вечера. Бешеный был ураган. С пургой, метелью и бураном.
– У нас в Янушевке заборы ломало, да три крыши снесло, деревьев покромсало штук сто. Весь посёлок в сучках и ветках. Дворы, улицы. Сугробы по пояс. А вы в это время в часть шли?
– Мы вышли из города – тихо было, – я старался перекричать мотор, чтобы слышали все. А потом задуло. Ну а как дошли – сами не знаем. Сперва промахнулись, левее нас снесло. Потом наугад выровнялись вправо и попали точь-в-точь. Повезло.
-А у нас мужик один замёрз. Пошел из отделения, с работы, в совхоз, – стал рассказывать один из пассажиров. – Его пурга прихватила за семь километров до дома. А он больной. Что-то с лёгкими у него. И не дошел километр. Свалило его. Встать не смог. Утром трактор дорогу чистил лезвием и наткнулся на него. Окоченел уже к утру.
– А у нас на улице тётка пошла от соседки за пять домов в самый разгар! – вспомнил мужик с последнего сиденья. – Так её развернуло и она на заднице по дороге улетела аж в другой конец улицы. Воткнулась в дерево. Но не сильно. Ползком доползла до дома Машки Сивцевой. Это метров десять. Еле-еле калитку отодвинула и заползла. Переночевала у неё. А муж ейный потерял бабу свою. С работы пришел, а её нет. И всю ночь он по поселку труп жены своей искал. Сам пошел с тяжелым ломом в руках. Им и удерживался за землю. Живой остался. Пришел под утро. Напился до поросячьего. А баба его утром заявилась, увидела его, мокрого целиком, на полу и подумала, что он помер. Пришел с улицы и сердце не выдержало. Как она выть начала – ужас! Соседи рассказали утром. А он тут же и проснулся от воя, думал, что пурга ещё воет. Сейчас сидят, бражку оба пьют на радостях. Целые остались оба. Счастье же.
– Вы, пацаны, молодцы! – шофёр аж посигналил три раза в знак особого одобрения. – Не сворачивайте никогда с пути. И не прячьтесь от беды. Так же как вчера проживите жизнь свою. Изо всех сил. Даже из самых последних. И ваши дети век вас помнить будут с внуками да правнуками.
Ну, поболтали ещё немного не только о вчерашнем урагане, а так, вообще. Да и приехали незаметно. Попрощались за руки со всеми. И мы пешком пошли по домам.
Бабушка моя ушла с тётей Олей на базар поболтать с подружками, семечек с ними полузгать. Мама на работе была. Отец один сидел за столом и писал. Из редакции специально ушел. Дома тише. Думать легче. Я ему бумагу от старлея дал. Он читал её минут пять и по красивому его лицу гуляла такая же красивая улыбка.
– Бабушка твоя поздно вчера к отцу Жука твоего ходила. Через заднюю калитку. Отец его и сказал, куда вы пошли. Ну, он-то знал. Не волновался особо. А мы вот не ведали, пока бабушка к ним не сходила. То есть, Жук твой – пацан правильный, к родителям уважительный. А ты, выходит, поросёнок ещё тот. Помнишь, мама мне запретила тебя ремнем пороть? Помнишь.
Я кивнул и выдохнул. Вроде обошлось.
– Но по башке тебе дать заслуженно она не запрещала. Нет же?
Я только собрался ответить, что впредь докладавать буду всем сразу и каждому по отдельности. Но не успел.
Батя развернулся и влепил мне такой едкий подзатыльник, что я отлетел за нашу круглую голландскую печку и там затаился. На всякий случай.
Отец хмыкнул, посвистел что-то знакомое. Какую-то мелодию из хорошего фильма. И сел писать дальше. Потом пришла мама. Ещё через полчаса – бабушка.
– Боря, нормально всё? – спросила мама тревожно.– Славик дома? Поговорил с ним?
– Поговорил, мама! – сказал я из-за печки. – Всё нормально. Отлично всё. Я всё понял и теперь всегда буду у всех вас отпрашиваться даже в туалет.
Все засмеялись и под это дело я вывалился из-за печки и обнялся с мамой да с бабушкой.
И всем стало хорошо.
– Не делай больше так, сынок, – попросила мама ласково. – Мишка Зуев вон пропал. Который с Чкаловской улицы. Вечером вышел в магазин… Месяц никто найти не может. Даже милиция. Так что, говори куда идешь, с кем и когда вернёшься, – завершила назидательный разнос любимая бабушка Стюра. Анастасия Кирилловна по новому паспорту.
Утром мы с пацанами встретились возле дома Жердя и поделились разборками с родителями. Больше всех досталось Жуку. Дядя Коля, отец его, шофер грузовика, твердой и справедливой рукой отметил ему левый глаз большим фиолетовым фингалом. Но Жук не обиделся. Наказание всё одно было меньше и беднее, чем полученное удовольствие от вчерашнего приключения.
– Ну что? – спросил я всю бригаду. – Сегодня у нас день без фортелей и загогулин? День искусства и культуры. Деньги у всех есть?
– А то! – за всех ответил Нос. – Обижаешь. Мы же не шкеты пятилетние. Мужики почти.
И мы пошли в клуб на дневной сеанс не важно какого фильма. Там перед началом кино всегда играла радиола хорошую музыку в исполнении духовых оркестров, под неё танцевали влюбленные и желающие ими стать. А в буфете продавали лучшие в мире ливерные пирожки по четыре копейки, лучший в мире лимонад «Крем-сода» и ни с чем не сравнимый фирменный кустанайский пломбир в хрустящих вафельных стаканчиках.
И только ради всего этого стоило так радостно жить и каждую минуту думать и верить, что с тобой всегда будут рядом вера и надежда на долгую, такую же счастливую, как вчера и сегодня, замечательную жизнь.
Глава двадцатая
После восьмого марта 1961 года мы с дружками Носом, Жердью и Жуком обанкротились до состояния унизительной нищеты, что ввело нас после кучи радостных моментов самого праздника в ступор и почти в прострацию. Нам было по двенадцать лет. Мужской возраст практически настиг уже и нас. Он твёрдо и нагло провоцировал нас на мужское поведение. Если ещё года три назад мы дарили в этот особенный для женского пола день копеечные открытки с искренними, но корявыми пожеланиями вечной красоты с молодостью и непроходящего счастья, то теперь-то мы скороспело выросли, и сопливые детские сюсюканья в специально отведенный для женщин день уже позорили нас как мужчин.
До отцов своих мы, ясное дело, не дотягивали. Я, например, не мог подарить маме креп-жоржетовый с шелком отрез на платье, духи «Красная Москва» и огромную коробку конфет «Слива в шоколаде» одновременно, а сверху этого дорогущего набора ленточкой перевязать толстый букет из красных и желтых тюльпанов, которые прилетели на наш базар самолетом из Грузии.
И Жук не мог, и Нос с Жердью. Их отцы женам тоже подкинули подарков рублей на пятьдесят каждый.
А мы шестого марта после уроков сели на скамейку в нашем скверике напротив моего дома и все деньги свои выложили в одну кучку. Посчитали. Вышло двадцать три рубля пятьдесят пять копеек. Поделили поровну и досталось на нос по пять рублей восемьдесят копеек. Но если бы одним только мамам подарки делать, уложились бы. Но у всех было по две бабушки ещё. И у каждого к тому времени уже имелась возлюбленная, которая об этом не знала. Но дарить что-нибудь крайне необходимо было и ей. Классным руководительницам дарил цветы класс. Скидывались по рублю. Так что, это пока был единственный решенный вопрос. Над основными надо было работать смекалкой, неожиданной дерзостью и использовать нестандартное мышление.
– Давайте купим мамам по современной пудренице, – задумчиво соображал за нас Жук. – У моей обычная картонная банка. Пудра-порошок розовый. Она ватку макает в порошок и потом шлепает ватой по лицу. Но это устаревшая пудра. Сейчас есть тонкие металлические баночки с кнопкой. Внутри зеркальце. Пудра спрессованная, как мел, а сверху неё круглая тонкая штуковина вроде губки. Нажимаешь на кнопку, она и распахивается. Вещь!
Моя тётка, батина сестра, купила. Я у неё видел. Красивая баночка, бляха-муха. Под серебро. И с разными выдавленными узорами по всей пудренице. Такую достанет маманя моя как бы между прочим в автобусе, чтобы в зеркало глянуться, так половина автобуса от зависти скорчится.
Мы описанием прониклись. Дело Жук говорил.
– Пошли в универмаг, – я поднялся и деньги сгрёб в карман. – Делать надо, времени в обрез. А мы сопли жуём.
Нашим девчонкам школьным «классная» на свои деньги втихаря купила открытки и раздала пацанам. Нас оказалось меньше на три экземпляра. Кинули жребий. Перемешали бумажки в форменной фуражке. Кто вытаскивал бумажку с крестиком – подписывал по две открытки, Двум девчонкам. И по тюльпану каждой на парту перед занятиями. Тюльпаны купил завхоз в затобольской теплице. Он каждый год их там закупал на школьные деньги. И в этом году привез ворох тюльпанов в мотоциклетной коляске. В общем, в школе всё сделалось само-собой. Продуманно и чётко. А вот за её пределами пацаны наши многие растерялись. Тоже ведь подросли и не хотели больше дарить мамам и бабушкам, даже сёстрам, подснежников с ближайших степных полян, да стандартных открыток с мимозами на лицевой стороне. Хотелось сделать солидные подарки. Некоторые пацаны на базаре продавали аквариумных рыбок своих, футбольные мячи, лежавшие без дела коробки «Юный конструктор» или что-нибудь ещё, чего не очень жаль. Что покупали – не известно. Но не мелочились – точно. Не по-мужски это было.
Ну, мы пудреницы нашли быстро. Действительно, произведение парфюмерного искусства. Серебристые, с узорчатым багровым ободоком вокруг. По всей серебристой части, то есть весь круг был заполнен выдавленными рельефными снежинками. Красиво. Купили мы их за рубль тридцать каждую, четыре штуки. А потом каждый выбрал то, что понравилось и было нужной вещью. Я нашел замечательную вазу для цветов за два рубля восемьдесят копеек. Переливалась она разными красивыми оттенками, была большой и высокой с шестью рифлёными гранями. Любимой девочке я приобрел и запланировал сунуть в парту перед уроками брошку-кошечку из чего-то, похожего на золото, плюс две сережки с тоненькими цепочками, на конце которых висели такие же золотистые сердечки. Бабушке Фросе нашел потрясающий платок. Черный, полупрозрачный, с красными мелкими цветками и зелёными листьями, разросшимися по всему платку. И всё. Деньги мои кончились. Бабе Стюре не хватило даже на ёжик для чистки примуса.
– Фигня! – успокоил меня Нос. – Пойди другим путём. Более оригинальным. Восьмого марта скажи ей поздравление и объяви, что подарком ей будет твоя самая мощная помощь в работе по хозяйству. Она обрадуется. Точно.
Я даже сам от себя не ожидал, что с Носом мгновенно соглашусь. Бабушке это будет и кстати, и приятно. Все всё купили, успокоились и пошли домой к Жердю, чтобы заныкать подарки под крыльцо его высокое, закрытое по бокам досками, которые в одном месте отодвигались. И тайник наш был там не один год.
Восьмого марта мы все радостно сделали радостным мамам удивительные для них подарки, девчонок своих возлюбленных анонимно тоже поздравили, заложив купленное в парты. Так, чтобы они не знали, но догадались, от кого поздравление. Бабушке Фросе я передал платок с дядей Васей, который привез маме и бабушке красивые маленькие сундучки из берёзовой бересты. Их он сделал лично. Ну а я бабе Стюре объявил о своём способе поздравления, чему она, как и предполагал Нос, обрадовалась безмерно. После уроков я и начал дарить ей свой необычный подарок.
А в этот праздничный день бабушка моя, которая плевала всегда на все предрассудки и, конкретно, на тот, что не велел в праздники работать, затеяла большую стирку. Штука обычная. Повседневная. Я тысячу раз видел, как бабушка стирает. Но не приглядывался внимательно. Ну, стирает и стирает. Вот если бы она самолёт конструировала – тут бы я вперился плотно, чтобы понять и тоже научиться. А стирка – любимое занятие женское. Кровное. Никому не доверят. А наше, мужское дело – ходить в чистом и глаженом. Спать под накрахмаленным пододеяльником на чистой крахмальной простыне и такой же наволочке. Но восьмого марта бабушке вкалывать всё же было нельзя. Хоть и было ей это правило по фигу. В праздник специальный, женский, она должна лежать на кровати и петь любимые песни, ожидая вечера, когда отец сам накроет стол и посреди него водрузит как знамя вазу с букетом тюльпанов и бутылку шампанского. Ну, и для меня лимонад. Ну, и для прекрасной половины нашей большой торт
в шоколадной обливке и с кремовыми лилиями на вершине. От которого и мы с батей откусим, конечно.
– Бабуля! – торжественно сказал я, выбегая в сени, и нежно отодвинул её от замоченного в цинковом корыте белья. От кучи простыней, пододеяльников, наволочек, полотенец и столовых салфеток. – Ты отдыхай. Пойди в комнату, ложись на кровать и пой любимые свои польские песенки. Газетки почитай, радио послушай. Пока батя не пришел. Без него праздновать не начнем ведь. Он будет угощенье выкладывать и тосты под шампанское про вас рассказывать. А стирать сегодня буду я! И сушить. Гладить тоже сегодня имею право. Нет! Обязательство!
Баба Стюра присела на табуретку. Она засмеялась и руками замахала. Вроде быЮ я – комар, а она меня отгоняет.
– А ты видел сколько всего в корыте мокнет? – Она сунула руку в горячую воду и под бельём со дна разогнала мыло в разные стороны и вверх. – Вот это всё надо сперва отбить колотушкой на крыльце, на бревне, какое дядя Миша мне выточил. Потом на стиральной доске всё продрать по два раза. Воду менять. Таскать её в ведре, чистую, из бочки от сарая. Потом надо выжать всё. Сперва отбить той же колотушкой, всю воду выбить. А потом руками всё скручивать надо. Последние капли выдавливать. А вон во дворе веревки натянуты. Развешиваешь всё. Сегодня не очень солнечно. Стало быть – надо белью помочь высохнуть побыстрее, чтобы до вечера погладить и сложить. Значит ты берешь вон ту фанеру, лист стоит внизу, под крыльцом. Берешь и бельё обмахиваешь воздухом. Тогда оно часа за три высохнет.
Бабушка замолчала и стала внимательно и с удивлением меня разглядывать.
– Скажи честно: зачем ты вместо меня собрался стирать? Ну, купил бы мне три тюльпана и было бы прекрасно. И тебе дальше не мучиться, и мне приятно, что не забыл про бабушку.
– Честно? – я аж покраснел. Неловко стало. – Я, бабуля, все деньги, что были на подарки, ухнул на маму, бабу Фросю и на девочку там одну. Ну, такая… Как тебе про девочку-то доложить? Не буду я. Девочка особенная и всё. А тебе решил самый дорогой подарок сделать. Он дороже денег. Хочу вместо тебя трудную работу выполнить. Чтобы ты празднично отдохнула и расслабилась. Бабе Фросе я платок купил, а ты-то не носишь платки. Зато она сегодня будет сама коров доить, овец загонять, гусей и кур. И стол праздничный сама накроет. Не Панька же!
Баба Стюра, прикрыла рот фартуком. Как она беззвучно смеялась – не видно было. Это я просто догадался.
– И гладить сам хочешь? – Бабуля убрала фартук и улыбалась, не скрывая недоверия. – Утюг углём заправлять надо быстро, чтобы не остыл. Значит голландку растопить ты должен уже сейчас. Насыплешь углей, раздуешь угли-то в утюге на крыльце. А бельё уже должно быть готовым. Сложенным и немного влажным. На стол перед глажкой укладываешь вот это тонкое, но жесткое одеяло полосатое. Под которым летом отец твой спит на улице. Понял всё?
Ну как я мог сказать бабушке в праздничный день, что вник не до конца и поверхностно. Поэтому решил, что по ходу дела невзначай буду доспрашивать, если чего не вспомню.
– Всё, я пошла песни петь? – засмеялась баба Стюра, не прикрываясь фартуком. – С праздником тебя, Настасья Кирилловна! С международным!
И она скрылась за дверью комнаты.
Если я буду описывать всю свою прачечную удаль полностью, то вы помрете либо от смеха, либо от жалости к бедолаге-пацану, который самоотверженно выбрал для любимой бабушки самый дорогой для обоих подарок. Ей он дорогого стоил, она получила половину дня безмятежного отдыха. А мне обошелся раз в сто дороже, чем все остальные подарки, включая классную руководительницу и девчонок из класса.
Через час я был полностью мокрый, неравномерно, но густо обложенный со всех сторон мыльной пеной. Я выносил каждую не постиранную пока вещь на крыльцо, закручивал его вокруг отполированного бревна на крепких крестообразных стойках и со всей дури избивал его длинной, толстой и гнутой доской, у которой нижняя часть была полосками выдолблена стамеской. Спасало то, что сверху у доски была ручка. Я лупил бельё, изгоняя из него грязную мыльную воду, одновременно за конец раскручивая его и укладывая в руку. Парочка простыней упала-таки. Но пол на крыльце был чистый. Эта экзекуция белья длилась час. Бабушка успевала сделать то же самое минут за пятнадцать. Ну да ладно. Потом я носился с двумя вёдрами к бочке и обратно. Полоскал корыто. Наливал чистую воду, потом опускал в корыто доску стиральную. Такое здоровенное, в березовой оправе волнистое цинковое полотно. Кидал на доску мокрый конец пододеяльника, ездил по нему куском хозяйственного мыла и одновременно тер его об волны металла. Потом сбрасывал протертый кусок в корыто и натирал следующий. Чувствовал я себя после второго этапа стирки примерно так же как после соревнований по пионерскому многоборью, в которых всегда имел неплохие, а иногда даже хорошие результаты. В стирке результат был тоже не самый худший, но сил забрал побольше. Хотел я передохнуть, но совесть сказала мне на ухо:– «Ты мужчина или хвост от блохастой собаки?!» Это добавило гонора и спортивной злости, но не сил. Все остальные прачечные операции я провел как бы в полусне. Куда-то бегал с ведрами, стучал доской, отжимал руками, развешивал с табуретки и создавал тёплый ветер куском фанеры, после чего руки захотелось отделить от себя и отложить их в спокойное место, чтобы они, деревянные, расслабились и отдохнули. Случайно при полоскании я обратил внимание на то, что вода стала голубой и немного шершавой. Думал, что по запарке из другой бочки зачерпнул старую воду. Позвал бабушку. Спросить, можно ли полоскать в ней или выливать и набирать новую. Бабушка за голову схватилась.
– Ой, внучек, я и забыла сказать, что пока ты пятый раз за водой бегал я синьки подсыпала и крахмал разведенный налила. Чтоб как всегда всё было красивое и накрахмаленное.
Ну, я говорил вроде уже, что бабуля у меня быстрая, хитренькая и умненькая. Помогала мне тайком. Ну, что уж там! Простил я ей эту выходку и стал дальше мучиться. Стиральную доску я так свирепо давил простынями, что пальцы и костяшки кулаков стали красными и слегка опухли. Мне уже стало казаться, что пальцы после четвертого двухслойного пододеяльника примут форму цинковой извилистой борозды и мне сложно будет играть на баяне. Выжимал я бельё с таким остервенением, что оно, бедное, должно было пополам порваться. Но пронесло.
Одно я стирал, другое сохло самостоятельно после размахивания фанерой, третье бил после стирки колотушкой и выжимал, подсохшее снимал, заменял его на выжатое, а в сенях перед гладильным столом стопка росла к моему неописуемому восторгу. Так резвился я уже часа четыре и скоро отец должен был притащить шампанское, лимонад и торт. А я не успевал. Уже надо было начинать гладить первую готовую порцию. Утюг был тяжелый как малый блин от штанги. С обеих сторон он имел по короткому крючку, которые скрепляли низ утюга с верхней частью. На них дядя Миша надел деревянные просверленные трубочки. Чтобы не обжигать пальцы. По бокам на утюге вырезали по четыре овальных дырки с каждой стороны. Это затем, чтобы раздувать угли.
Ну, я уже настроился гладить, одеяло полосатое расстелил на столе и разровнял складки. Шло дело! Кипело, можно сказать, булькало и ползло к финишу. Но тут я с ужасом понял, что с размаху ударил своим неплохим лицом в самую грязную грязь. Я не разжег голландку и не имел углей. Это был крах. Позор на всю семью, а, возможно, и на весь белый свет, если бабушка расскажет во дворе про моё неоконченное поздравление. Я метнулся к сараю, к поленнице, и стал выдергивать дрова из середины, поскольку до верха не доставал, а бежать за табуреткой – это только время терять. На бегу несколько колотых дровишек высыпалось и я стал исполнять почти цирковой номер: жонглирование дровами и укладка их прямо с полёта на верх уцелевшей стопки. Помогла спортивная реакция и через десять мину я уже бежал по крыльцу вслепую, потому, что охапка дров оказалась выше глаз. Когда я ввалился с дровами в комнату. Бабушка Стюра охнула и три раза ощутимо стукнула себя по лбу.
– Вот же, лихоманка меня забери, дура я престарелая! Вздремнула маленько ненароком и сказать тебе не успела, что дрова-то я разожгла давно. Незаметно, мимоходом. Всё равно делать было нечего. Дай, думаю, запалю печку-то. А то папа твой скоро явится и надо будет шампанское да лимонад пить. А у тебя бельё не глажено! Ты бы, конечно, и сам успел, но я совсем случайно затопила, автоматически. Видно, почти засыпала уже на ходу. Не помню, что и делала.
Я аж сел. Дрова выронил. Умная и по-доброму хитренькая была моя бабушка Анастасия Кирилловна.
– Я унесу дрова-то, – баба Стюра быстренько подхватила стопку тонких полешек и исчезла, оставив после себя нужную для работы фразу. – А ты, внучок, давай, уголь засыпай совочком и беги его раздувай на крыльце!
Сыпал я уголь в утюг, как деньги в карман: бережно и внимательно, чтобы мимо не проронить. На крыльце им махал им вверх-вниз с такой скоростью, что искры и даже целые маленькие раскаленные кусочки вываливались в дырки, чего я не мог заметить сквозь дым, который заполнил крыльцо. Над крыльцом была крыша, державшаяся на опорах перил. И дыму улететь было некуда. Хорошо, вовремя поднялась бабушка, сбросила угли на землю веником. Он всегда в уголке перед входом стоял.
-Так спалишь весь дом, – сказала она озабоченно. – А народу тут много живёт. Всем будет праздник с фейерверком. Международный женский день. И жить все будут во дворе. Скоро лето ведь. Смотри, как надо раздувать.
Она опустила руку с утюгом за перила вниз и раскачивала его со скоростью не меньше моей.
– Всё! – Она подала мне раскаленный железный агрегат, извергающий такой жар, что стоять с ним рядом было жутко. Как возле котла в аду, под которым пылало пламя, облизывающее весь котёл и грешника в нём заодно. Такую смешную картинку я видел в журнале «Крокодил».
И я начал гладить. Весь процесс занял у меня полтора часа. За это время я четыре раза менял и раздувал угли, а к концу работы рука так привыкла к утюгу, что мне даже расставаться с ним было больно. Так, блин, это ещё хорошо, что у нас был раскрывающийся утюг, куда сыпали горящие головёшки. С ним полегче глажка идет. А у многих наших соседей имелись простые металлические болванки, отлитые по форме утюга. У него только подошва была отполирована. Но его надо было постоянно совать в печку и ждать, когда он раскалится, а потом бежать и быстренько гладить. Потом он остывал, и хозяйка снова укладывала его на угли. Некоторые разогревали такие утюги на примусах. Газа у большинства населения в те годы в Кустанае не было. Бабушка купила дорогой утюг, а выходило, что им гладить дешевле. Керосин был подороже дров и уходило его довольно много.
Ну, это отвлекся я. Случайно. Переходим назад, к празднованию восьмого марта
Пришел батя с огромной сумкой. Увидел меня грязного, взмыленного, аккуратно доглаживающего салфетки и наволочки, которые я в муках аккуратно сворачивал и укладывал в стопки. Увидел и стал хохотать так весело, будто я не горбатился над бельём, а рассказывал очередями, как из пулемёта, смешные анекдоты. Я, конечно, батин непедагогичный поступок мимо себя пропустил, поскольку всё закончил делать и отнес бельё в шкаф.
После чего бабушка стала меня обнимать, целовать и спасибо говорить, как будто не у неё был праздник, а у меня. Потом и мама явилась с уроков второй смены. Все собрались. Баба Стюра рассказала родителям о том, какую огромную работу я выполнил на отлично и как здорово этим самым её обрадовал в день праздника.
– Это было самое приятное для меня поздравление! – говорила она с радостью.
Тогда мама тоже стала меня обнимать и целовать, а отец пожал руку, шлепнул по плечу. Одобрил, значит. Потом мы с ним вручили подарки свои маме, а он ещё и бабушке купил два красивых фартука и набор деревянный для кухни: скалка, деревянная поварешка, толкушка для картошки, шесть ложек расписных, как и всё остальное, а ещё деревянный в цветах поднос, который после смерти мамы так и остался у меня. Я им не пользуюсь. Берегу. Да, ещё в комплекте он доску подарил, на которой режут овощи с фруктами.