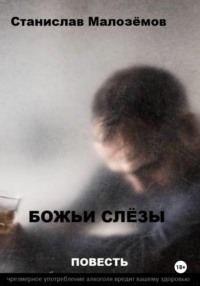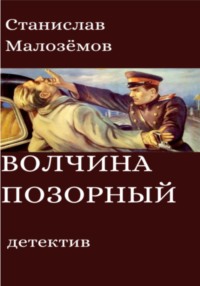полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
А часа в три дня пришла тётя Оля с подвального этажа, принесла бутылку водки и пирог с рыбой. Она всех подряд поцеловала в щёчки, пожелала всем много всякого хорошего и поинтересовалась у наших после законной процедуры целования:
– А слыхали, небось, уже, что у нас деньги отменили? Мишка мой по радио слышал. С первого января.
– Дурь полная! – изумился Шурик, брат отцовский. – Я час назад ходил в магазин за халвой и лимонадом. Купил за деньги. И сдачу дали деньгами, а не воздушным поцелуем. Вот сдача.
Он вынул из кармана шестнадцать рублей и семьдесят копеек.
– Ну, Мишка мой не идиот же, хоть и безногий, – обиделась тётя Оля. – Он трезвый с утра, как дитё малое. Двести граммов всего поутру принял. Для него это – ровно и не пил ничего. Левитан сказал так, что, мол, деньги это пережиток царизма и капитализма. А мы уже на пороге коммунистического настоящего. И первый признак того – нет больше денег, как и обещали. Все же знаете – при коммунизме денег не будет. Бери всё, сколько надо тебе задаром. Но больше, чем нужно – не хапай. Вот оно и пришло, светлое будущее. И подгадали-то правильно. С первого дня Нового года наступает закономерный коммунизм.
Отец включил радио погромче и задумчиво сказал:
– Как-то это всё не стыкуется ни с чем. Особенно с экономикой. В ней пока ещё дыры латать да латать. Сельское хозяйство весь прогресс назад тянет. Целину вон подняли за четыре года, а урожаев нет. Зерно за деньги завозим из Канады. Коровы, свиньи и бараны мрут тоннами от болезней и морозов. Да и кормов мы мало делаем. Не хватает. Какой тут к черту коммунизм! Нет. Что-то тут не то. Пойду позвоню в редакцию дежурному выпускающему.
И он без шапки, в пальто и ботинках пошел в двадцатипятиградусную зиму
к магазину сбежавшего от советской власти во Францию купца Садчикова, возле которого имелась будка с телефоном-автоматом.
– Ну, мы пойдем пока домой, – бодро сказала тетя Панна. – Подготовим всё и ждём вас к шести часам.
Они оделись, укутали шестилетнего Генку в толстое пальто ниже колен, валенки, ушанку с опущенными ушами, обвязали вокруг поднятого воротника шарфом, оставив на виду только глаза, и помахав нам прощально, исчезли.
– Прямо вот разогнались они всем всё бесплатно раздавать. – мрачно сказала бабушка. – Чего они тогда налоги подоходные с трудящихся высчитывают? Эти деньги куда идут? Государству. Значит оно, государство, у нас денежки забирает за надобностью. Нужны, стало быть, ему денежки наши. А тут оно их какого-то лешего берет и отменяет. Вот неказистость где лежит. Враньё всё это.
Тётя Оля обиделась, фыркнула, закатила глаза. Мол, отсталые вы все. Радио не слушаете. И стала быстро удаляться к двери, оставив в комнате длинную осмысленную фразу.
– Поднос из-под пирога, Стюра, завтра занесешь. Толик с Галкой придут к вечеру. Новый испеку. Рыбы Мишка мой со своими дружками-калеками из лунок на Тоболе надергал килограммов пять. Тебе дам мороженую. Если после всех гостей останется чего. Занесу.
В дверях они в прямом смысле слова столкнулись с отцом. Причем тёте Оле не повезло больше. Она быстро уходила, а батя стремительно влетал. Крупнее тёти Оли он был раза в три. Поэтому тётя взвизгнула от тяжелого толчка, оторвалась от пола и её свободный неуправляемый полет должен был закончиться на столе, в тарелках с винегретом и холодцом. Но отец-то у меня был перворазрядником по лыжам. Бегал очень быстро. И, хотя сейчас на ногах лыж он не имел, но возле стола оказался раньше и тётя Оля зависла над холодцом в его крепких руках. Вместо того, чтобы испугаться, она весело засмеялась, после чего развеселились все. Отец поставил её на пол и все мы стали обнимать их обоих и говорить всякие шутки. А когда отшутились и тётя Оля, осторожно, как разведчик, покинула комнату, отец сказал, глядя на маму.
– Аня, ты помнишь, что почти год назад, весной, правительство издало какое-то постановление Совета Министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами»?
Мама аж испугалась такой строгой, как приговор суда, формулировки и короткой перебежкой переместилась подальше от отца, на кровать. Села и замахала на него руками.
– Нет, конечно! Ты, Боря, с кем-то меня путаешь. Я знаю только, что главнее всех сейчас Хрущёв Никита …Э-э-э…
– Сергеевич, – отец сел рядом. – Я звонил сейчас выпускающему редактору нашему. Он сказал, что в свёрстанном номере уже стоит постановление Совета Министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами» То же самое, что и в мае прошлого года. Только тогда они ещё собирались реформу делать, но не уточняли – когда. А тут – бац! С 1 января! И за один день сделали нам и девальвацию и деноминацию! Надрали-таки народ под звонким и доброжелательным названием.
Мы не знали слов, которые знал отец. В редакции он занимался экономикой сельского хозяйства, добросовестно выучил финансовую структуру советской экономики. И новость изложил он нам языком попроще: для серых масс годным и ясным.
– В общем, рубль – это с сегодняшнего дня десять копеек. Сто рублей – это десять рублей.
– И чего я куплю на десять копеек? Как вас кормить буду? – бабушка Стюра подняла фартук к губам. То есть, заволновалась и расстроилась.
– Да не в этом дело. Всё вы купите. Всех накормите, – отец сел на табуретку, оперся локтем о подоконник и глядел на небо. – Но только до тех пор, пока всё в магазинах будет и подорожает пока не втрое-четверо, а раза в два.
– А куда оно всё денется? В войне победили, к коммунизму идем, живём все лучше с каждым днём. Вон на холодильники «Саратов» очереди у людей на производствах из пяти человек состоят. То есть набрали уже все холодильников. А лет пять назад по двести человек в списках было. Вон, на Танькиной кондитерской фабрике…
– Это у меня теперь зарплата будет какая? – настороженно спросила мама.
– Сто тридцать рублей, – засмеялся отец. – У меня двести пятьдесят. Я ж заведующий отделом. В десять раз меньше. Но и стоить всё поначалу тоже будет в десять раз меньше. Ну, скажем, года два-три от силы.
– А пенсия моя, родимая? Мои шестьсот рублей дармовые тоже в десять раз уменьшатся? – баба Стюра аж за голову схватилась.
– Мама, всё уменьшается в десять раз. И то, что мы получаем, и цены на товары. – Так ведь, Боря? Только почему два-три года всего? А дальше что?
Отец пригладил шевелюру. Волны темно-каштанового волоса взбрыкнули вихрами и плавно улеглись на места.
– Есть у меня предчувствие, что реформу эту сделали совсем не для удобства народа. Это мы в редакции толпой умников наших обсудим завтра. Но мне кажется, государству надо из чего-то выкрутиться. Есть тут какая-то хитрость, ядрёна вошь!
– Боря! – воскликнула моя аристократическая мама учительским голосом. – Ребенок слушает. Слова приличные выбирай.
– Мам, я про ядрёну вошь слушаю и в городе и во Владимировке. Вошь как вошь. Только крепкая, ядреная как квас у бабушки. Сами про квас так говорите.
– Вот смотри, Аня, – поднялся и начал грузно, с силой наступая каблуками на пол, ходить по комнате отец. – Был рубль, да?
– Был…– на всякий случай вздохнула мама. Отца она знала наизусть и понимала, что сейчас он чем-то сильно удивит.
– Есть у нас сейчас монета десятикопеечная? Есть. Но теперь она уже не десять копеек, а уменьшена в десять раз. Просто – взяли и в десять раз монету сократили. Сколько стало копеек?
– Да копейка одна, чего тут считать! – мрачно сказала бабушка, тоже предчувствуя не очень радостную новость.
– А вот девять копеек где? Куда делись целых девять копеек? – засмеялся отец.
Все, и я тоже, начали думать: куда, действительно, пропали девять копеек.
Мне в голову ничего не прилетело, ни одной умной мысли. Бабушка высказалась, что их аннулировали. Ну, вроде просто отказались от каких-то девяти копеек. Не миллионы же. Мама сделала круглые глаза, потрясённая догадкой.
– У нас что, просто забрали их?
– А теперь прикинь масштаб. Миллиарды, триллионы десятикопеечных монет лишились девяти копеек и государство тихо, спокойно спрятало триллион раз по девять копеек в свой бездонный карман. Который после реформы сталинской сорок седьмого года стал худеть. Мы же почти задаром живём. Лечимся даром, учимся без денег. На курорты и в санатории путевки копеечные. Билеты на любой транспорт – гроши. Уголь для частного сектора почти ничего не стоит, за свет и квартплату с нас берут чисто символические суммы.
– Власть о нас заботится, Борис, – бабушка погрозила отцу пальцем. – Вон у нас в Польше как было?! Ничего бесплатного или дешевого. Только самое плохое. А так, напрягайся, вытягивай сам себя за волосы, как барон Мюнхгаузен. Всё есть, но все дорого. А в СССР чего нет? Всё есть. Но бесплатно или дёшево. А ты про какие-то девять копеек… Ну, подхитрило маленько государство. Так для нашей же пользы. Ещё дешевле всё будет, коли казна на миллиарды рублей пополнится.
– Да нет. Вряд ли простому народу деньгами, у народа же и отнятыми, будут райскую жизнь организовывать. Тут какой-то другой замысел. Более важный властям, чем благодать народная, – батя снова начал кудрявить волны красивого волоса. Волновался, значит. – С точки зрения власти, мы и так уже давно в раю живем. Водка простая – семнадцать рублей, московская – двадцать восемь рублей семьдесят копеек. Нигде в мире крепкие спиртные напитки не стоят такую мелочь. Рай! Тут государство замыслило что-то очень крупное для себя. Но что – непонятно пока. Понятно одно. Через пару лет наша налаженная, славная, простая и легкая обывательская жизнь начнет трещать по швам и разваливаться. Я не экономист. Но есть логика. Вот по ней, по логике, власть поимела с нас миллиарды рублей на свои дела. Увлечется ими и станет ей не до нас, бедолаг. Это, ребятушки, начало краха, чую я так. Краха гарантированного приближения к светлому будущему. Хрущев в передовой статье в «Правде» уже намекал, что коммунизм будет в восьмидесятом году. Скоро он это ляпнет на ближайшем съезде КПСС. Точно. А съезд в октябре. На носу, можно сказать. Так я скажу, что фигу нам всем, а не коммунизм к восьмидесятому году. В это время мы как раз наоборот, будем искать, где купить пожрать и каким хреном оплачивать жизнь в государственных, да и в своих домах.
– Фу, Боря! Зачем так грубо при ребёнке?– мама вздохнула.
– Я не ребенок уже. – Обиделся я, хотя ничего из разговора и речи отца не понял толком.
Батя переобулся в валенки, которые ему Панька свалял, нацепил вместо шикарного своего драпового пальто телогрейку. Шапку он не носил, имея волос, густой и непродуваемый. Прихватил с собой только толстые вязанные из овечьей шерсти варежки, сделанные во Владимировке бабой Фросей. И пошел в сарай за деревянной лопатой – прокладывать свежую дорожку в снегу от ворот до дороги.
После него пришла тётя Оля, радостная и возбужденная.
– Вы уж не серчайте, милые мои, на дуру старую. Послушала Мишку свого полоумного. Тот сам толком не понял, чего радио говорило, а сам рассупонил смысл, как ему захотелось. Ну, про то, что деньги отменяются. У, заноза, а не мужик! Деньги-то просто уменьшились для удобства населения. Это я уже сама радио слушала. Раньше на базар тащила я сто рублей. Если мелкими, вот такая пачка. В кошелек не влезает. А теперь всего десять рубликов надо брать. И всё, что тебе надо, купишь. Получается, что всё подешевело. Без объявления про снижение цен. Вот это, я понимаю, забота о советском народе! Умный и добрый дядька наш Хрущёв! Прямо под ручку с народом идет в коммунизм. На базаре обменный ларёк поставили. И в центре города, возле почты. Пошли со мной, Стюра, менять гроши наши.
Мама достала из ридикюля свой большой желтый кожаный кошелёк, посчитала купюры и мелочь. Высыпала её на стол и задумалась.
– Мне женщина, которая из бочки молоком на углу торгует, сдачу дала мелочью. Так… Вот двадцать копеек. Шесть штук. То есть по новому – двенадцать копеек. Вот пять штук по две копейки, всего, значит десять. Поменяют – дадут одну копейку. Девять копеек отдаю правительству, – она засмеялась тихо и не совсем весело. – А это – три монетки по одной копейке. Делим на десять и ничего не получаем. Ноль целых и три десятых копейки выходит. Таких денег не бывает. Выкидываем, стало быть. У кого копейка есть ещё?
– Ну, вот она, – тётя Оля сунула руку в карман фартука и выудила одну копейку. – Спичек коробку куплю.
– Выкинь к лешему, – бабушка моя забрала у подружки копейку и бросила её в мусорное ведро. – Она без надобности теперь.
– А сколько теперь спички будут стоить? – тётя Оля скорбным взглядом проводила полет копейки в отходы.
– Так же и будут. Копейку, – бабушка развеселилась. – А она, копейка сегодняшняя, это вчерашние десять копеек. В десять раз коробок, значит,
подорожал! Вот что получилось-то!
Мама испуганно сказала всем: – Так. Всё, Закончили эту самодеятельность. А то вы сейчас насчитаете тут. И так голова кругом кружится. Ничего не понятно пока. Бориса подождём. Он всё по полочкам разложит. Ай! Вру. Сегодня и он вряд ли точно сам знает. Вот завтра в редакции они пригласят для интервью специалиста из горфинотдела, тогда и обсудят, в чём нам, населению, выгода от такого обмена.
Но бабушка с тётей Олей оделись потеплее, собрали все домашние деньги, даже заначки «на черный день» раздербанили и ушли на базар. В ларёк, где обмен шел. Вернулись они часа через четыре усталые. Ближе к вечеру возвратились. Видно, очередь была приличная. Отец намахался лопатой, выпил чаю, лёг на кровать с газетой «Известия», раскрыл её и через три минуты отключился, опустив газету на лицо. От дыхания середина газеты вздувалась бугорком, опадала, снова подпрыгивала и опять падала, приглушая легкий батин храп.
Бабушка дала мне рубль. Маленький, раза в три меньше бывшего. Узкий, длинный, цвета мутного, немытого медного таза.
– Вот тебе на кино, на мороженое, на халву, лимонад, семечки, двухлитровую банку томатного. А на остаток завтра сходишь на карусель с дружками.
– И что, мне рубля хватит? – я оторопел и, похоже, лицо моё поглупело основательно.
Бабушка моя вообще была весёлая, ироничная и неунывающая никогда. Ну, поэтому и засмеялась громко, хлопая в ладоши.
– Вишь ты, какой подарок народу подарили! На рубль неделю жить можно теперь. Если есть хлеб и запивать молоком. Ладно, поживем-поглядим, куда дунуло тёпленьким – на нас или наоборот. Иди, давай. На семь часов в клуб успеешь.
Я побежал, как на соревновании. Шустро. Было уже без десяти семь. Добежал за пять минут и сунул в маленькое окно кассы свой усечённый со всех сторон рубль.
– Один детский!
Токая женская рука в полукруглую дырку стекла кассы вытолкнула билет и горсть монет. На билете была напечатана цена – один рубль. Ручкой её перечеркнули и написали рядом: десять коп. Девяносто копеек я ссыпал в карман и он стал тяжелым.
– А кино какое идет? – я так заинтересовался экспериментом с новыми деньгами, что даже неважно было, что смотреть придется.
– Хорошее кино. Про оборону Ленинграда. «Балтийское небо», – крикнула кассирша. – Беги, третий звонок уже. На журнал опоздаешь.
Но я успел. Журнал был «Наука и техника». Понравился. И кино понравилось. Про войну мне все фильмы были по душе. Потому, что из них я узнавал, как и из каких мук складывалась наша победа.
После фильма я медленно шел домой и по дороге удивлялся тому, что посмотрел кино за десять копеек всего, а девяносто оставшихся – это ж целый капитал. Или девять раз ещё в клуб сходить, или с пацанами завтра повеселиться на полную. С мороженым! Зимой, что всегда было кустанайской традицией и особенностью. Никакой холод не в силах был заставить городских подростков, да и многих взрослых, не есть мороженое. Ещё купим завтра с Носом и Жердью, а, может, и Жук пойдет с нами, двадцать пирожков с ливером. Они теперь должны стоить в десять раз меньше – всего четыре копейки штука. Четыре копейки – целый пирожок, вкусный до одурения, ароматный, всегда горячий. Продавщицы доставали их из большого темно-зеленого цилиндрического бачка, который стоял перед ними на обычной табуретке. Я прикинул, что ещё мы сможем набрать всего на девяносто копеек. Получалось просто очень много. Да если ещё у Носа или Жука будут копейки, так мы и карусели обойдем все три. Они в кустанайском парке и зимой крутились, и лимонада с конфетами употребим от пуза. От всей души.
Выходило так, что отец мой умный в этот раз ошибся. Вот же я на десяточек всего-то в кино сходил. И на завтра денег – завались. Да, погорячился батя. Зря государство наше ругал с недоверием. А оно вон какой благородный и щедрый поступок совершило. Вон как простым людям уважение выказало. Значит, будет коммунизм. Чего государству врать народу? Да на фига ему это нужно вообще?
Я успокоился сам и решил, что отец тоже сам попробует жить широко и раздольно за гроши мелкие, и сам поймет, что ошибся. И тоже станет жить и радоваться, что светлое будущее с нового года после такого подарка от правительства уже почти пришло. А и не пришло пока, то скоро прибежит.
Куда оно денется при такой любви народа к великому Ленину, и любви Ленина, который и в мавзолее – живее всех живых, к нам, к советским людям, которые идут строго по указанному им пути? Никуда не денется. Так и объясню отцу. Он умный. Он поймет и перед государством мысленно извинится за неправильное недоверие. Мне было хорошо и радостно. Впрочем, как всегда. Жить мне нравилось. А с новыми волшебными деньгами – вдвойне!
Глава восемнадцатая
Тянет, но я больше не буду писать о реформе 1961 года, которую тогдашняя советская власть так и струсило реформой назвать.
Нет, не могу удержаться.
Одно только скажу – батя мой, когда предположил, что всё это броское и фундаментальное реформенное дело нам, народу, боком выскочит и к краху приведет, вот он тогда крах и накаркал. А может, и не он, конечно. Может, так задумано было. А, скорее всего, задумано было с энтузиазмом и надеждами на процветание государства, но злые ветры, как всегда случалось с нашей большой страной, подули не туда. Поперек щерсти. Отец тогда мрачное будущее наше вычислил после въедливых расчетов в редакции со всем коллективом.
Приглашали на пресс-конференцию и какого-то валета козырного из экономического отдела обкома КПСС. Вот после этой посиделки с чаем, печеньем и шоколадными конфетами батя пришел злой и молчаливый. Мама с бабушкой его накормили ужином, но сами разговор не затевали. Ждали. Ну, отец поел крепенько, на душе у него отлегло временно и он спокойно объяснил, почему вот эта прекрасная послевоенная жизнь начнет прокисать, как молоко в тепле, уже через пару лет.
Повторить, то, что он тогда говорил, я попросил его аж в 2000 году, когда мне уже самому перевалило за полтинник. Потому, что того, первого объяснения запомнить не мог в силу отсутствия взрослого ума. Вот как батя объяснил предвидение:
«Дело в том, что тогда, в шестьдесят первом, мало кто знал, что настоящая трагедия произошла с золотым содержанием рубля, не смотря на то, что он стал на десять копеек дороже доллара. А золотое содержание, собственно, и составляет ценность самой рублёвой бумажки. Так вот, вместо того, чтобы соответствовать двум с хвостиком грамма золота, рубль потянул всего на ноль целых, девять десятых грамма . В общем – обесценился рубль вдвое.
Потому и образовался в среднем более чем двукратный рост цен. А многое подорожало и в десять, и в сто раз.
Вот это и были предвестники ухудшения жизни замечательной, к которой все привыкли как Великому советскому дару народу. Примеры, чтоб понятнее было, самые простые: если пучок зелени до реформы стоил пять копеек, то и после его продавали за те же пять, но теперь уже новых. То же было и со спичками. Если раньше коробок стоил семь копеек старыми, то теперь он стал стоить одну копейку новыми. Намного дороже стали и телефонные звонки по уличному телефону-автомату: две новых копейки вместо 15 копеек старых. Но больше всего государство наварилось на газводе: цена стакана газированной воды – три копейки с сиропом и копейка без сиропа осталась неизменной. Поднялась, стало быть, в десять раз.
Рост цен не ограничился этим первым скачком, а продолжался и в последующие годы. Цены на базарную, например, картошку в к 1964 году по сравнению с дореформенными взлетели аж в триста пятьдесят раз с лишним. Ну и, главное – в десятки раз дороже стало всё импортное.
И общество потихоньку стало расслаиваться на тех, кто может позволить себе покупать дорогое, и на остальных, обречённых иметь дешевый и не очень качественный магазинный ширпотреб. Отсюда снова попёрли все недостатки людские, которых при устоявшемся реальном социалистическом равенстве практически уже не стало: зависть, жадность, чувство превосходства у одних и униженности у других. Вот с этого крах и начался. Результаты мы все видим. И имеем их только в тягость. Так хрущевская денежная реформа подложила мину замедленного действия под экономику СССР. Спустя три десятилетия после знаменитого постановления о замене денег могущественная страна прекратила свое существование. Причин тому с годами нацеплялось много, но эта была главная. Толчковая».
Всё. Батя высказался. Я добавлять ничего не буду. Вы всё, чего бы не хотелось видеть, видите и, к сожалению, имеете.
***
Поэтому вернемся назад. В мой отрывок существования от семи до тринадцати лет, когда мне лично было счастливо и радостно жить. Потому, что нам, пацанам и девчонкам той эпохи плевать было и на реформу, и на международную политику, на всякие железные и шелковые занавесы, а также на все существующие правительства и их величественные глупости, да грандиозные проделки, оформленные под стремление к дальнейшему процветанию.
На январских каникулах пришел ко мне утром весёлый Жук с фингалом под хитрым глазом и с лыжами. Он был в фуфайке, ушанке и валенках. Между фуфайкой и тёплой обувкой проглядывались стёганные ватные штаны. За плечами у Жука болтался туристический рюкзак, тощий как он сам, но хранивший в недрах своих стандартный наш набор для путешествий. Хлеб, соль, воду и пять луковиц.
– Синюху кто подарил? – ткнул я пальцем в фингал.
Жук взвыл, но обижаться передумал. Потому, что имел дело ко мне поважнее. Он сунул в карман фуфайки толстые овечьи варежки и сел на порог, вцепившись в короткие свои лыжи и бамбуковые палки.
– Это мне братан младшой, Витюня, въехал ботинком. – Жук нежно погладил синяк. – Метнул через всю комнату и, гад, попал. Да псих ненормальный! Я ему сказал, что у него ноги кривые потому, что он жрёт много хлеба с маслом. Булку за раз может зажевать. И масла полкило. И чтобы он завязывал это обжорство, хоть мама и работает на молочном заводе. На Витька нашего, блин, всё ворованное масло уходит. Несправедливо.
– А тебе что, на лыжах легче ходить, чем просто в валенках? Ты, видать и спишь – лыжи не снимаешь. И щтаны стёганные, -укусил я друга нежно, уважительно.
Жук едкость пропустил, вроде не заметил. И доложил, зачем пришел в такой «боевой» униформе.
– Мы на каникулах собирались двинуть в воинскую часть к друзьям солдатам? Они нас обещали научить стрелять из карабина СКС? Хочешь пострелять? У них там мишени стоят в виде фигур вражеских. Фанерные. Все в дырках. Сам же ты и сблатовал всех нас в часть на лыжах сбегать, когда каникулы начнутся. Забыл что ли?
И тут я вспомнил. Идея была моя. Точно. Нос согласился с радостью. Жердь просто не отказался. По-дружески. Хотя дальних путешествий не любил. Военный городок ПВО с радарами и высотомерами стоял в чистом поле за двадцать почти километров от города. Летом мы к солдатам и пешком ходили, и на великах ездили. Военные нас любили почему-то. Кормили. Пускали в радары, на радиостанцию, ночевать оставляли и играли с нами в «дурака» до полуночи. Устав заставляли учить. На будущее.
Потому мы к ним и зимой три раза бегали. На лыжах. Они у нас были широкие и короткие. На сыромятные ремни крепились к валенкам. Хороший транспорт такие лыжи. Особенно там, где лыжни нет. Не тонули в снегу и не просили широкого шага. Можно было и быстро бежать без напряжения, а хочешь – иди коротким шагом. Как пешком. Лыжи наши почти ничего не весили. Не то, что длинные гоночные. Те как гири на ногах висели, да и разворачиваться на них – целая работа. А без лыжни бежать на длинных и узких – вообще пытка.
– А Нос где? А Жердь? – я стал собираться. Тоже надел ватные штаны. Рубашку фланелевую, а на неё свитер. Баба Фрося связала из собачей шерсти. Когда две здоровенных собаки линяли во дворе, они цепями своими сгребали осыпавшуюся шерсть в кучки. Бабушка их собирала, чесала, потом толстые нитки из неё крутила на веретено. У неё деревянная установка для этого дела имелась. Дед сделал. Весной, после того как собаки облезут полностью, она начинала всем вязать тёплые свитера, носки и шарфы. Я уже обулся в свои валенки, дратвой подшитые к толстой подошве, плотно валяной, а тут баба Стюра пришла из сарая. Огурцов принесла соленых из погреба и кастрюльку капусты квашеной. Щи варить собиралась.