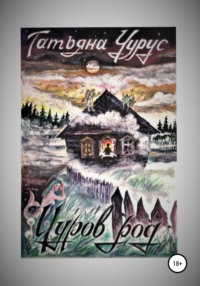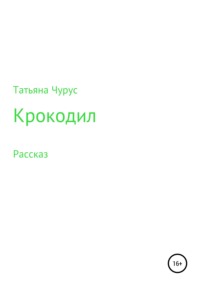полная версия
полная версияБаушкины сказки
– На память…
– Гуля. – Вчерашняя!!! И так просто руку протянула. И имя чудное! Гуля, Гуля… из детских книжек…
– Александр Иванович… Можно просто… Саша. – Александр Иванович испугался короткого звука своего имени и быстро глянул на Гулю, взял ее ручку в свою ладонь… Гуля тепло задышала… совсем рядом…
– А я здесь часто бываю.
– А… А я в первый раз. – Александр Иванович еле заметно коснулся левого кармана рубашки: шишка на месте…
– Ой, Вам плохо? – Глаза Гули округлились, бровки домиком!
– Нет… хорошо…
Шли молча. Наконец, Гуля выдавила из себя.
– Ну вот мы и дома… То есть я здесь живу. До свидания. – И она быстро побежала в маленький рубленый домик, ничем не отличавшийся от остальных. Александр Иванович заметил номер на двери.
– Одиннадцать, – произнес он вслух.
Он вынул сигареты из кармана брюк, закурил, щурясь от дыма. Раз он убежал от бабушки («неслушник этакий!») летним знойным деньком, а потом заблудился – и цифра «одиннадцать» на незнакомом большом доме покачивалась перед его глазами, словно чьи-то тоненькие ножки-спицы плясали какой-то чудной танец…
В окне мелькнуло что-то белое… Александр Иванович очнулся. В проеме стояла Гуля в белом домашнем халатике. Он развернулся – и быстро пошагал прочь, оставляя за собой шлейф дыма.
А вечером были танцы. Александр Иванович еще утром приметил большой плакат на воротах пансионата: рыжеволосая женщина в красном платье выделывала кренделя своими тонкими ногами, а ее черноволосый кавалер (кто-то пририсовал ему большую кавказскую кепку и черные усы) страстно обнимал ее за талию. Под плакатом была подпись: «Танцы-шманцы-обниманцы всего за сто руб. Спиртные напитки с собой не проносить!» Хорошо, Валентина не было в комнате – и Александр Иванович, несколько раз оглянувшись на дверь, вынул из чемодана одеколон «Саша»… Это ему на день рождения из года в год друзья дарят: Волобуев и Оганесян… Это у них шутки такие… «Могли бы и что путное подарить, – вечно крысилась Галина, жена Александра Ивановича. – С ихней-то зарплатой могут себе позволить. Это ты у нас все на копейках в своем институте сидишь… Мне сроду цветка пожалел.. а им, небось, дорогое что тащишь… Рохля». Александр Иванович – только жить начинали – принес ей белые ирисы… нежные, хрупкие… боялся дохнуть… А она взяла, поставила в воду: «Жрать нечего, а он деньги псу под хвост выбрасывает!» – А потом на форзаце книги (его, его, Александра Ивановича книги: слава Богу, бабушка дожила: «Ишь ты!» – И попробовала красную корочку новешенькой книжки на зубок!) записала: «Цветы – рубль; молоко – 26 копеек, хлеб – 20 копеек, масло…». А ведь была хорошая девчонка. Галка… Александру Ивановичу тогда казалось, что всех самых лучших девчонок зовут Галками… Галка Шульц за Витька вышла… потом, говорят, они разошлись, она с кем-то спуталась… Темная история. А Галка Пискарева была библиотекаршей в Ленинке. Бойкая такая, маленькая, некрасивая, на воробышка похожа… и хвостик такой смешной носила… Она сразу приметила Сашу – худого, долговязого, смешно утопающего в книге. Только уши торчат, как бабушка говаривала… Ей замуж хотелось, а кто ее возьмет… И он такой смешной кому нужен… Вот и стала его обихаживать… по-бабски… А он и не сопротивлялся… На первое серьезное свидание его брат Валерка собирал: он к тому времени уж был женат, имел двоих детей от Кати Кругловой: в булочной на углу работала. Ты, говорит, зубы ей не заговаривай про разные там книги, сто лет, мол, они ей нужны, она их, мол, и в библиотеке своей видит. Ты, мол, язык прикуси – и целуй взасос, вот так… И Валерка, отец двоих детей, смешно чмокнул воздух. Но Саше, в смешном Валеркином костюме, который явно был ему короток (а ведь мать не выполнила обещания: Саша вырос – а костюм ему так и не купили… померла мать, не видела «сыновнего счастья»), – так вот Саше и стараться не пришлось. Галка взяла инициативу в свои руки. Она буквально приволокла своего незадачливого кавалера домой (что с них возьмешь, с мужиков), напоила какой-то домашней наливочкой… И первый поцелуй свой он не помнил… не помнил он и того, что было потом… А проснулся он в одной постели с Галкой – и она объявила ему, что теперь они муж и жена и что, если он все-таки окажется такой же сволочью, как все мужики, и не женится, хотя обещал, отец ее убьет…
Папаша Пискарев, тишайший и нежнейший на трезвую голову, во хмелю бывал грозен. Однако Сашу принял как родного.
– Ты наливай, сынок, не стесняйся! – И он сам налил покрывшемуся пятнами «жениху» «штрафную». – Ну, горько, коль не шутишь? – Саша не шутил – и резво опрокинул стакан в горло, поцеловав Галину, и откуда только прыть взялась! Галка подозрительно покосилась на муженька. – А вот это по-нашему! – И папаша Пискарев налил зятю. Саша залихватски опрокинул и второй стакан… и третий… Папаша Пискарев засмеялся: мол, ядреную наливочку готовит его Галка, мол, не пропадешь с такой. – Слышь, паря, а т’я как звать-то? – Саша назвался Александром. В голове крутилось: назвался груздем, назвался груздем… – А! А меня папашей можешь звать. Отец-то есть у т’я? – Саша качнул головой. Пискарев прослезился. – А теперя, считай, есть! – И он долил остатки наливки в Сашин стакан. – Ну, вы веселитесь, а мене на работу пора. – И, как ни в чем не бывало (правда, икнул разок), он встал, поправил замок на штанах, помахал рукой «детям» – и пошел себе на работу (а работал он сантехником в местном ЖЭКе). Галке не до веселья было: она деловито взвалила себе на горб лыка не вязавшего мужа, стащила с него Валеркин костюм (правда, она об этом не знала), носки, ботинки, уложила спать, а потом отправилась на кухню готовить обед – все, как и полагается…
Бабушка же, наутро увидев внучка, и виду не подала, что всю ночь глаз не смыкала: мол, явился не запылился… А когда из-за спины длинного Саши вышла махонькая Галка, только и перекрестилась… Окрутила, ох окрутила эта «шельма рыжая» ее дитя! Ох и горе горькое… Но потом махнула рукой: живите вы, как хотите, коли уж ни совета вам не надобно, ни благословения… И заскулила, прикрывая рот платком…
Александр Иванович убрал с глаз долой одеколон «Саша»… Что это он?.. Белены, что ль, объелся? Или заболел? Тут и липовый цвет не поможет… Он сел на кровать и долго сидел, подперев рукой голову… Да что это с ним?.. Перед глазами мелькало белое платье Гули… А Галка надела на свадьбу розовое платье… и фаты у нее не было… А костюм он взял напрокат… Мать слова не сдержала… Да и свадьба-то была одно название что свадьба: так, посидели, выпили, закусили… Галка «там понаготовила всего, что на Маланину свадьбу, там одной живой воды разве не было» – и бабушка смягчилась: хорошая хозяйка, не страшно и помирать – есть, мол, на кого Сашка оставить. Так они и жили…
Александру Ивановичу вдруг стало нестерпимо жалко Галку. Да что это он в самом деле… Подумаешь, «свиристелка какая-то тонконогая»… да нет, не свиристелка… и не тонконогая… Александр Иванович прилег на подушку, закинув руки за голову… Ножки у нее полненькие… длинные… волоски золотые… и походка, походка… точно по одной линии плывет плавно так, неспешно… и ступни такие узкие, как лодочки… и щиколотки («щиколки», на бабушкин лад), и туфельки… какие же у нее туфельки… такие с пряжечками, беленькие такие туфельки… Он чуть не задохнулся от нежности… А сарафан тоже беленький… и крылышки на плечах… и оборочка кружевная… и вырез… и грудки круглые… Да что это он… Александр Иванович запретил себе думать о Гуле. Вот еще, делать ему нечего! Женатый человек, отец взрослой дочери… «Лахудра, матери бы помогла»… Галина с возрастом совсем высохла, озлобилась, устала от жизни, что ли… «А от нее дождешься! Мать пашет как Пашечка, а ей хоть бы хны…» А дочери и впрямь было хоть бы хны… «У всех дети как дети, а эта…» – Галина махала рукой. «Ты б хоть слово сказал, что ли? На конференциях своих, небось, рта не закрываешь…» А Александр Иванович молча сидел за книгой… только уши торчали… Дочка родилась – папаша Пискарев ушел к «женчине одной: хорошая женчина, справная, только полная очень». Уступил молодой семье «квартеру»: «много ли мене надо-то, а им жить»… Так и жили… Верка орала по ночам, как «оглашенная»… Александр Иванович писал диссертацию, закрывшись на кухне… А Галка… бедная Галка… Бабушка уже тогда слегла: редко помогала, «от мене теперича толку чуть», говаривала…
А вот интересно, Гуля младше Верки или нет… Александр Иванович сладко потянулся… Гуля… Гуленька… Гуля-Гуля-Гуленька… Гуленька мой сизокрылый… Гули-гули-гулюшки… С гулькин нос… Господи, да что это он… Он вдруг встал перед зеркалом: «полста лет – ума нет»… Волос на голове, «что у козе под хвостом», мешки под глазами, рот кривится в виноватой улыбке… Зато стройный! И Александр Иванович похлопал себя по животу… схватил свежую рубашку, которую выгладила Галина… Нет, он должен ее видеть… просто видеть… она ничего не узнает, она просто подумает, что он… что… Он вихрем вылетел за дверь, столкнувшись с Валентином.
– А! – понимающе пропел тот. – Ночевать придешь? А то я тут с Раей? А? Ты как, Сань, а? – И он залихватски подмигнул Александру Ивановичу. Александр Иванович махнул головой: мол, дело молодое! – Вот это по-нашему, вот это… Слышь, друг, не ожидал, вот клянусь, не ожидал… Ты, если что, ты всегда можешь на меня положиться… – И Валентин свистнул Раисе, стоявшей в темноте.
– …ну-ну-ну, давай, давай, давай! – кричал розовощекий массовик-затейник. На полу танцплощадки «толстомясая» женщина в ярком красном платье сотрясалась под каким-то бородатым мужичонкой, который буквально ползал по ней с завязанными глазами и руками, пытаясь ртом что-то отыскать на ее пышных телесах. Александр Иванович засмеялся: он вспомнил, что в книжке «В помощь массовику-затейнику», которую он в шутку подарил своему брату Валерке (а тот, между прочим, обиделся: я, мол, тебе вазу подарил на юбилей за пять тыщ, а это, мол, почти треть моей получки, а ты мне брошюрку дешевую, тоже мне, брат, мол!), так вот в книжке эта игра называлась «Кладоискатель». И тут же он жадно стал шарить глазами по толпе: где же Гуля?.. Ее нигде не было. Не пришла… Он заметался… Побежал в другую сторону… и там нет… – …а вот мы попросим молодого человека в лиловой рубашке… Молодой человек! Вы, Вы! – И массовик-затейник махнул Александру Ивановичу рукой. Тот растерянно оглянулся: я? – Вы, Вы! Пройдите на сцену! – Александр Иванович еще раз оглянулся… Да, но так она может его заметить! – Вот и отлично! Поприветствуем нашего нового участника. Представьтесь. – Александр Иванович что-то отвечал… и вдруг ему почудилось, как мелькнуло что-то белое… и исчезло… Его словно ветром сдуло: он побежал за белым видением… Массовик что-то крикнул. Толпа засмеялась…
– Гуля! Гуля! Вы где? – Но ему никто не отвечал… Александр Иванович, обессилев, сел на какую-то корягу и закурил. Из дыма вышла белая фигура… Он боялся двинуться, чтобы не спугнуть ее…
– Это Вы? – спросила фигура.
– Я… кто же еще?..
– Вы так смешно отвечали… Я бы ни в жизнь так не ответила… такие дурацкие вопросы… А Вы так…
– Господи, это Вы… Гуля?.. – Он чуть не подпрыгнул. Это была она, она!!!
Она улыбнулась – и они пошли… Было холодно… Александр Иванович обнял ее за плечи – и по его спине пробежали мурашки, «мураши», как говаривала бабушка, – Гуля сжалась в комочек… маленькая птичка, да и только… Она глянула на него быстро-быстро и отвела глаза… И он опять чуть не задохнулся от нежности…
– Гуля, я…
– Не надо ничего говорить, – просто сказала она и прижалась к нему. Александр Иванович сглотнул слюну… Его кадык заходил ходуном…
– Гуля, я не знаю, что происходит…
– Я тоже… – опять просто сказала она и обхватила его руку обеими руками.
– А что же делать?..
– Не знаю… – Она посмотрела на него и снова быстро отвела глаза.
– Но…
Она приложила пальчик к своим губам: молчи, ничего не говори… И они шли молча, прижавшись друг к другу, не глядя друг на другу… и только кадык Александра Ивановича ходил ходуном.
– Ты же замерзла совсем! – Она помотала головой, выдохнула… Он почувствовал себя мальчиком…
– Ты только не торопи меня, ладно? – И она доверчиво посмотрела в его глаза. Он прижал ее к себе и поцеловал в макушку. – Только не торопи! – Он помотал головой.
Дошли до ее домика. Она погладила его по груди и положила на то место, которое гладила, свою головку.
– Уже?..
Она помотала головой и быстро побежала к домику, улыбнувшись на прощание.
Александр Иванович закурил. Он не мог двинуться с места. Он смотрел, как зажегся свет, как снова мелькнуло что-то белое… или это ему кажется… Он любил одну женщину… давно любил… Уже и ни матери не было в живых, ни бабушки… Он сглотнул слюну… Нина… Ниночка… Он встретил ее на конференции… Господи, как она не была похожа на всех этих ученых дур с лошадиными лицами, небритыми подмышками, прокуренными голосами… Они отдавались быстро, громко и истерично кричали, закатывали глаза, заунывными голосами читали свои скучные доклады… А Ниночка… юная, полувоздушная… Она выходила на кафедру, цокая своими тоненькими каблучками – и мужская половина зала оживлялась: начинала покашливать, поправлять галстуки, волосы… А она выбрала его… долговязого, нескладного, полысевшего… «Почему я? – спрашивал он, не веря своему счастью и утопая в ее в пышных волосах пшеничного цвета. – Вон сколько молодых, красивых…» А она тихо положит ему головку на грудь и дышит так тепло… А потом глянет в его глаза – и у него кадык ходуном… «Ты хочешь, чтобы я тебя бросила?» А он целует ее, целует… К тем Галка не ревновала… а Ниночка появилась – она стала нюхать его рубашки: «Земляникой, что ли, пахнет?» А ее губы и были сладкие, как земляника… Она вышла замуж за одного профессора… «Ты завладел моим сердцем, – тихо говорила она Александру Ивановичу, – сделай что-нибудь…» Он обещал развестись с Галиной… «Жизня проклятущая…» Он тосковал… «Твоя, что ли, ушла?.. Правильно. Это я, дура, терплю…» «Да замолчи ты!» – Он замахнулся на Галку… она заплакала… сто лет не плакала…
Он подумал вдруг, что сердце его не выдержит, если у него с Гулей… и сам не знал, что лучше: получится или не получится… Господи, помоги!.. И он стал смешно крестить рот, как его бабушка… Господи…
– Саша! – Александр Иванович вздрогнул, прикрыл рот ладошкой… из домика выбежала Гуля… молча кинулась ему на грудь… Они обнялись и пошли куда-то…
– А ты не знаешь, здесь можно достать земляники? – зачем-то спросил он и глупо улыбнулся.
– Рановато еще, – сказала Гуля. – В июле можно…
– А-а… – протянул он и не мог больше дышать… и ноги отяжелели…
Почему он так обмяк… трава мокрая от росы… золотые глаза Гули… и дышать нет сил… Он пытается глотать воздух открытым ртом, а внутри будто нет места… Мать умерла – он побежал куда глаза глядят… очнулся в густой траве… мокро… роса… и дышать не мог… Александр Иванович прикоснулся губами к крылышку Гулиного сарафанчика…
– Девочка моя, я женат…
– Я знаю, – тихо сказала она.
– Я не могу… – А она приложила пальчик к его губам…
У нее золотые волоски на ногах… а между пальчиками – вторым и третьим – перепоночка («Я родилась семимесячной, они не успели сформироваться…»)… а на правой грудке родинка такая большая… и на лбу («Говорят, признак интеллекта…»)… и губки… Александр Иванович растворился…
Наутро он сыскал-таки землянику… «Бери, сынок, не пожалеешь. Парничковая, ни у кого не поспела еще…» И старушка из соседней деревни подала ему туесок. «Ягодка к ягодке, глянь, и сухая, не мокрущая…»
Он бежал, спотыкался… Мальчишка!.. Гуля проснется – а у ее изголовья…
Он прокрался в домик через открытое окно… Гуля спала, по-детски откинув одеяло… Рядом сопела пожилая женщина с седыми космами… Александр Иванович замер… но быстро опомнился и, поставив туесок с земляникой у изголовья Гули, выпрыгнул в окно… Он бежал… хотя за ним никто не гнался… На светлой рубашке предательски краснело большое пятно…
Он потерял счет времени… «Девочка моя…». – И он утопал в ее золотых волосах, задыхался от нежности. А она так тепло дышала… «Ну почему? Ну что ты во мне нашла?» А она улыбалась так просто и гладила его по груди с редкими кустиками волос…
– А здравствуй, милая моя… Н-да, повезло так повезло… И Валентин сверлил своими масляными буравчиками Александра Ивановича и Гулю, которые сидели за соседними столиками. – И уезжать не хоца, да, Сань? А надо… – Он что-то еще говорил, а Александр Иванович задыхался… уезжать… пора уезжать…
– Я завтра уезжаю… – Он побагровел и опустил глаза.
– Я знаю… А может… – И она захлопнула рот ладошкой, смешно выпучив глаза.
– Ты только не приходи… не надо…
– Да… да… конечно…
Она пришла. Молча стояла на автобусной остановке рядом с ним. Она накинула летнее пальто… и куталась в него, словно продрогла до корней волос, как-то очень медленно, тягостно куталась в пальто… Люди пытливо смотрели на них… Александр Иванович покрылся красными пятнами… вот бы провалиться сквозь землю… и какого черта пялятся… заняться им, что ли, нечем… А Гуля просто стояла рядом… просто дышала… Ему показалось, что кто-то хихикнул… Господи, мука какая… И где автобус этот «проклятущий»… Наконец-то… Подъехавший автобус поднял клубы пыли…
– Вася, ну ты где? Ну вещи-то заноси… Я что, мужик, что ли?..
Александр Иванович стоял словно под прицелом: пассажиры заняли свои места… ждали только его… Гуля неловко развела руками: мол, пора… мол, ничего не поделаешь… Он кивнул и быстро… глаза бы его ее не видели… невыносимо… и быстро вошел в автобус, сев на заднее сидение…
Она продолжала стоять, медленно кутаясь в пальто…
Автобус тронулся… Вот он приедет и все скажет Галине… Александр Иванович повеселел. Конечно… Гуля шла за автобусом… Потом все быстрее и быстрее… Он стал задыхаться… Она превратилась в маленькую точку… Галина все поймет… Автобус выехал на трассу… Пассажиры не спускали глаз с Александра Ивановича… Он задыхался… ерзал на сидении… спрятаться бы куда-нибудь… Какая-то женщина что-то сказала своей соседке… Та покачала головой… Да еще это предательское пятно на рубашке… Вот Рохля… Он закрыл глаза: из-под век сочился горячий пот… А когда откроет – ничего не будет… Автобус мчался по трассе… Женщина продолжала мерно покачивать головой… Автобус трепало из стороны в сторону… Александр Иванович болтался, «как легкая в горшке»… Господи, да он… да он… Бабушка!.. Баб Ань!.. Он огляделся… черт, пятно на рубашке… А сам он сидит… в малиновом костюме… да-да, в ужасном ярком малиновом костюме… вот ведь… пристал к телу, что «банный лист к причинному месту»… И Александр Иванович зажмурился…
Танчишка
Баушка повела носом – а уж там нос: на семерых рос, а одной достался! – сиверко, будь он неладен. Да тебе-т ишшо кого рожна надобно, песье ты отродие, – и она пшикнула на Кабысдоха, что пошел ‘от ровно веретеном под ногами. Так и есть, девчонка понародится, да лихая! Она посуровее подвязала вечный черный платок на голове, взяла бадожок в руку, оправила лямку на котомке, оглянулась на дом… Слышь, Митрей, ставень подправь, не то окошко зияет что щербина в роту у шепелявого! Осталась бы, Татьяна, а? Куды без тебе? И дом не дом… И то, точно почернел, дом-то… Баушка тихохонько утерла слезу краешком платка. Да пса-т привяжи, экий бешеный! И почапала… ‘От как сейчас и вижу: махонькая, сухонькая, сучит ножонками… А меня в те поры еще и отродясь в помине не было…
А баушка что носом чуяла. Чую я, Митрей, понародится девчонка, унучка знач’, ух чую! Да ты что, Татьяна, девки-т твои уж понарожали, а меньшуху саму ишшо пестовать! ‘От завсегда ты такой был, Митрей, поперечный! Тебе в лоб, а ты по лбу! Говорю, понародится – стало, понародится… Танчишка! Да я что… ‘От и помалкивай! Так я… А чему они девчонку-то выучат? Лытками сверкать д’ на собак брехать? То-то… Слышь, Таньша, а можа, мы с тобой ишшо, а? Ты эт’ чего удумал? Можа, ишшо того, а? Эт’ какого рожна? Так того самого? Славит свои муды да на все лады! И баушка пошла хохотом! Нет, ну ты погляди, а? Дурень ты лапотный! Сто лет в обед, а туды же! Да я ж ишшо Петрушину руку помню… Да нешто мою запамятовала, а? И Митрей сгреб махонькую баушку в охапку своей большущей клешней! Да ты что, ирод, люди ж смотрют! А пущай смотрют! А здравствуй, Митрей Иваныч, старый ты хрыч! Тетка Федосья хохотнула через забор! Здорово, коль не шутишь, Федосья Тимофевна, чтоб тебя черти на том свете драли! Да пес его знает, что на том-то свете деется, я гляжу, ты на энтом свете что чертяка какой! А баушка, точно в зыбке, покачивается в большущих клешнях Митрея, да на земь спускаться и не торопится! Что, Хведосья, верно люди-т сказывают, будто ты дядь Сысоя опоила сивухой, эт’ чтоб он, знач’, Сысой-то, пощипал тобе за хвигуру, а он на лавку брык и посыпохивает? Тетка Федосья зыркнула через забор и хлопнула ставнем. Мой-то ’от, Митрей-то, неугомонный: никакая сивуха не берет! Ты бы выучила, а? Федосья высунулась из окна – и как окатит баушку с Митреем, да помоями! Да мимо! А баушка там навыверт хохочет: в раж вошла! А после на земь прыг – отряхнулась, платок оправила… Ладно, побузыкались и будя… Ты ступай, Митрей, ступай. Федосья приоткрыла ставень. Баушка прыг – и сызнова в зыбке покачивается, по бородушке Митрея поглаживает, а там и от бородушки-то одна волосина осталась, силы небесные! Тетка Федосья задернула занавесь. Слышь, Татьяна, так я того, на сеновал-то приду нынче? Эх ты… а ’от Петруша не спрашивал: приду – не приду… Так я это… того? А баушка засучила рукава – и пошла окучивать картохи: девки-т уж больно до картох охотницы. А ну как нагрянут – да всем выводком?
Я-т сама не видала: меня-т тогда и в помине не было – так, догадом беру… А и сколь годков-то тебе, баушка, сровнялось в те поры? Да сколь бы ни было, все мои… Ну сколь? Да пес его знает… Эт’, стало, Нюрка-т со Стюркой уж своих-т девок в школу спровадили, а Верка… И пошла баушка перечислять все колено… А Марьюшка, самая меньшуха-то, матерь твоя, в техникум подалась, что в городе-т… А бедовая: там ножки тонкие, волос вьющий, густой, а уж голос что! Догляд да догляд за ей нужон! И куды все поразъехались, окаянные, медом им там, нешто, понамазано? Так меня отродясь и в помине не было – как же ты чуяла-то? И что Танчишка я? Ишь, шельма рыжая, люди-то как сказывают: хушь горшком назови, толь в печь не сажай, слыхала, небось? Как чуяла – а так! И баушка повела носом: на семерых рос… Семь девок от его принесла, от Петруши-покойника! А уж ладные, ну что пасхальные яички! А и то: уж сколь разродиться не могла! Петрушины тятя с мамой – покойнички – ’от, мол, взял неплодную. Царство им небесное, дядь Ивану да тетке Прасковее. Там житья не давали, ироды. А Петруша все свое: Татьяну не трожь – любая она мене, хушь плодная, хушь неплодная. А можа, г’рит, это мое семя проклятое? А я толь и молчок: чуяла я, понародится Нюрка, того и гляди, – неспешная она была, ох неспешная, и в кого пошла? А уж что Петруша радешенек: там криком кричал, до чего, мол, ладная да пригожая! И брюхатил мене – почитай, и не ходила пустопорожняя. Семь девок от его принесла, там одна краше другой. И пойдет сказывать про Нюрку, да про Стюрку, да про Верку. Ну уж матерь твоя-а-а… И восьмого б понесла – да немец проклятущий Петрушу мово ’от что от лона взял, с корнем вырвал. Матерь твоя и тятьки не знала – осталась от его одна карточка… Баушка прикрыла рот краешком платка. А на карточке той (и кто щелкнул?) – ’от как сейчас вижу – дедушка Петя: там большущий, круглолицый, улыбка во весь рот, а зуб что крупным жемчугом, и костюмчик-то на нем, и рубашечка белая, и сапожки сыромятные (дядя Иван сам шивал, знатный мастер был по сапожному делу: все село, почитай, обул!), а в сапожки те брюки заправлены – все как у людей; а рядом баушка: фигурка девичья, да толь груди большущие (шестерых выкормила, а то как же!), а к баушке будто кто под подол залез – одна головенка и торчит, а та, баушка-т, ровно ту головенку рукой и оглаживает, а довольнешенька (там матерь твоя, Марьюшка: а что неугомонная – так и лупила мене, так и лупила, покуда не понародилась на свет, тонконогая, жопка с лук’вичку!); а за ними, за родителями, шесть девок: то Нюрка, да Стюрка, да Верка… Да все ладные, пригожие, там морды трескаются – до того сочные. А и с чего? Годы-т лихие ить были, годы тощие…
И баушка пошла окучивать картохи: там толь свист и стоял. Сама-т я не видала – так, догадом беру. Да сколь сровнялось-то тебе в те поры? Да уйди ты, окаянная, ’от ить пристала, что банный лист к муньке! Сколь да сколь… Лодырь царя небесного, толь и знаешь сколькать… А лопаточку держит ладно, а землица мягкая, нежная. ’От что пух: чуть копнешь – а она сама идет, да волнами, волнами! И призадумалась, лопаточку отставила: а и сколь… Эт’ Нюрка тады… да Стюрка…. да Верка… Рот-то раззявила – а уж клешня Митрея на боку лежит. Ишь ты, принесла нелегкая… Все не угомонишься никак. Девок тобе мало, баб? ’Он хушь бы и вдовых? Тетка Федосья хлопнула ставнем. Баушка – а и шельма ж ты рыжая! – погладила свово непутевого деверька да по кудерькам: мать честная, три волосины и осталось – а там что шевелюра была: волос вьющий, густой! Тот – эт’ Митрей-то – приладил свою культю к баушкиному лону. Да уж почитай сорок годков – а все не угомонюсь, Таньша! ’От как Петруша привел тобе к тяте с мамой – так и не угомонюсь. И что мне бабы те, что девки – присушила ты мене! И пошел культей орудовать! А ну тише, тише, оглашенный! Федосья заголосила что есть мочи: «Отец мой был природный пахарь…» И к Федосье не прилаживался? Да пошла она к едрене Фене. И на Мотрю-песельницу не засматривал? Одна ты, Таньша, одна ты… ’От дурень-то иде, а? Погоди, а про Маланью мне бабы сказывали… Да, сунулся было… обмудохался толь… Баушка покачала головой: дурень ты, мол, дурень… так, мол, и пропало твое семя пропадом… И пригорюнилась: о-хо-хонюшки, всё война проклятущая… А тот одно да потому: пойдешь за мене? Да куды я пойду на старость лет… И потом мужняя я. Да ты что, Петруши ить нет как нет. Эт’ кому как. Тобе, можа, и нет, а мене муж он законный – и в метриках прописано, аль не видал? «А я работал вместе с ним…» А тому что шлея под хвост попала, знай мордуется: а как же уполномоченный? Полномощный-то? Баушка хохотнула, прикусила краешек платка. Хороший мужчина, сурьезный, со всеми девками брал. А сапожки, помнишь, у его: там горели на солнце! А все не Петруша… Баушка призадумалась. А ить отца Серафима приехал с самого с города Камня заарестовывать. А мене увидал… Батюшку-т нашенского помнишь, поди? А то как же? Нешто и он туды ж? Митрей присвистнул! А то! Там проходу не давал: там рясой своей что трёс… А какая с мене матушка? Ну Татьяна, ну… Да будет баскалычиться, антихресть! А энтот, как его, ишшо до мене председателем поставили, помнишь? А то как же? Лукич-то? Баушка снова хохотнула… Сама-т я не видала: меня и в помине отродясь не было – так, догадом беру. Ох и бедовая ты, баушка, ох и бедовая-а-а! Хороший мужчина, тверезый. Девкам-то обновы справил, помнишь, поди: польты с воротником да пимы – бабы толь и ахнули… Тетка Федосья перекинула половик через забор и пошла хлестать что есть мочи. «На нас напали злые турки…» А гармонист? А то как же… Девки… «Село родное полегло…» Ну будет лясы-то точить – ступай на сеновал, да портки сымай… А я кваску принесу покуда холодненького… А квасок что сбраживала!.. И сейчас слюной изойду, как припомню… Там сухари брала одни черные – ни одного белого. Сама сушила, сама хлеб пекла, сама замес ставила…