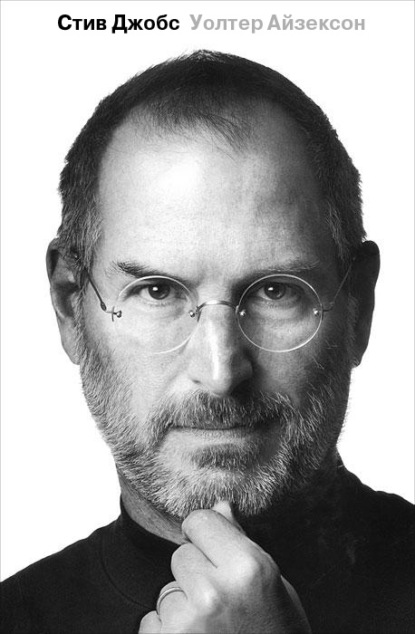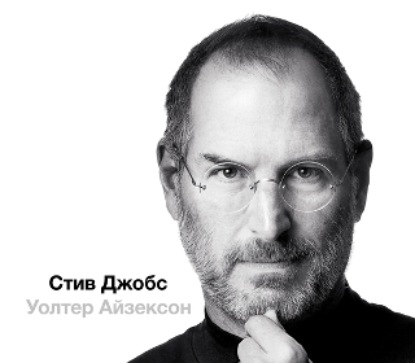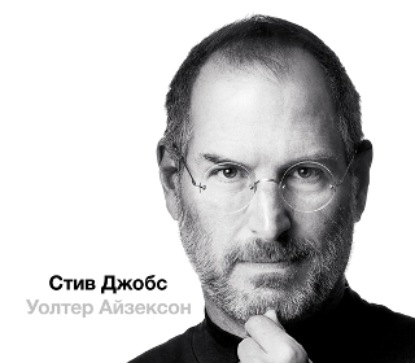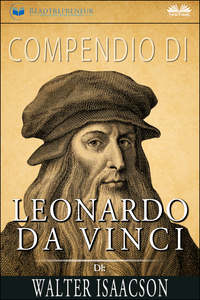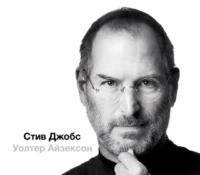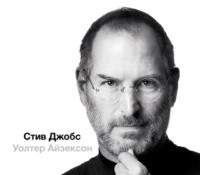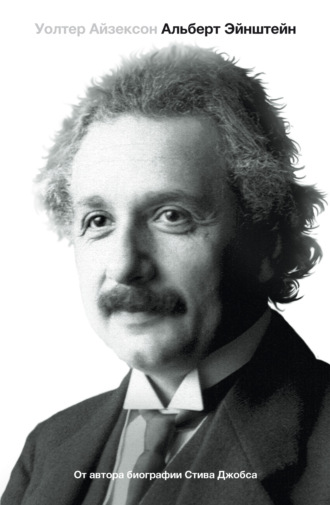
Полная версия
Альберт Эйнштейн
Чем бы ни руководствовался Эйнштейн, задавая этот вопрос, ни документов по регистрации Лизерль, ни каких-либо других бумажных свидетельств ее существования, насколько известно, не сохранилось. Разные исследователи, как сербские, так и американские, включая Роберта Шульмана, работавшего в проекте “Документы Эйнштейна”, и писательницу Мишель Закхайм, которая написала книгу о поисках Лизерль, проверили записи в церквях, отделах регистрации, синагогах и кладбищах, но безрезультатно.
Все свидетельства существования дочери Эйнштейна тщательно уничтожены. Почти все письма, которыми обменивались Марич и Эйнштейн летом и осенью 1902 года, во многих из которых, вероятно, упоминается Лизерль, уничтожены. Переписка между Марич и ее подругой Элен Савич была целенаправленно сожжена семьей Савич. До конца жизни, даже после того, как они развелись, Эйнштейн и Марич с поразительным упорством делали все что могли, чтобы скрыть не только судьбу своего первого ребенка, но и сам факт его существования.
Одним из немногих фактов, которые не были поглощены черной дырой истории, было то, что в сентябре 1903 года Лизерль была еще жива. Беспокойство Эйнштейна, выраженное в письме к Марич в этом месяце о возможных трудностях “для ребенка в будущем”, делает этот факт установленным. Из письма также понятно, что к этому времени она была отдана на удочерение, поскольку Эйнштейн говорил о желательности наличия “заменяющего” ребенка.
Существует два правдоподобных объяснения тайны судьбы Лизерль. Первое – что она выжила после того, как перенесла скарлатину, и ее воспитала приемная семья. В паре случаев впоследствии, когда женщины приходили к Эйнштейну, заявляя, что они его незаконные дочери (и оказываясь самозванками), Эйнштейн не отвергал этой возможности с порога, но, учитывая то, сколько у него было романов, нет свидетельств, что он предполагал, что это могла быть Лизерль.
Одна из версий, которую поддерживал Шульман, состояла в том, что подруга Марич Элен Савич удочерила Лизерль. Она на самом деле растила дочь Зорку, ослепшую в детстве (возможно, в результате осложнения после скарлатины), которая никогда не была замужем, и от людей, которые осаждали просьбами дать интервью, ее всегда ограждал племянник. Зорка умерла в 1990-х годах.
Племянник, который опекал Зорку, – Милан Попович – отвергал эту возможность. В книге, которую он написал о дружбе и переписке Марич с его бабушкой Элен Савич, “В тени Альберта”, Попович утверждал, что “была выдвинута гипотеза о том, что моя бабушка удочерила Лизерль, но изучение истории моей семьи показывает безосновательность этого”. Однако он не присовокупил к этому никакого документального подтверждения вроде свидетельства о рождении своей тети, которое могло бы доказать это. Его мать сожгла большую часть писем Элен Савич, в том числе касающихся Лизерль. Собственная гипотеза Поповича, частично основанная на семейных историях, рассказанных сербской писательницей Мирой Алешкович, состоит в том, что Лизерль умерла от скарлатины в сентябре 1903 года – уже после письма Эйнштейна, отправленного в том же месяце. Мишель Закхайм в своей книге, описывающей ее поиски Лизерль, приходит к такому же выводу[237].
Что бы ни произошло, это усилило депрессию Марич. Вскоре после смерти Эйнштейна писатель Питер Микельмор, ничего не знавший о Лизерль, написал книгу, частично основанную на беседах с сыном Эйнштейна – Гансом Альбертом. Рассказывая о первом годе после их свадьбы, Микельмор отмечает: “Между ними двумя что-то произошло, но Милева говорила только, что это «глубоко личное». Что бы это ни было, она тяготилась этим, и Эйнштейн, кажется, каким-то образом был за это ответствен. Друзья предлагали Милеве рассказать об этих проблемах и не загонять их внутрь. Но она настаивала, что это слишком личное, и не открыла секрета до конца жизни. Таким образом, жизненно важная часть биографии Альберта Эйнштейна осталась окутанной тайной”[238].
Болезнь, на которую жаловалась Марич в своей открытке, посланной из Будапешта, была, похоже, новой беременностью. Когда оказалось, что так оно и есть, она испугалась, что это рассердит ее мужа. Но Эйнштейн, узнав новость, выразил радость по поводу того, что скоро появится замена его дочери. “Я ничуть не сержусь, что бедная Долли высиживает нового цыпленка, – написал он, – в действительности я рад этому и уже подумал, не должен ли я рассматривать это как возможность для тебя завести новую Лизерль. В конце концов, нельзя тебе отказывать в том, на что имеет право каждая женщина”[239].
Ганс Альберт Эйнштейн родился 14 мая 1904 года. Рождение нового ребенка подняло настроение Марич и вернуло некоторую радость в их брак, по крайней мере так она пишет своей подруге Элен Савич: “Перебираюсь обратно в Берн, так что опять смогу увидеться с тобой и показать тебе моего дорогого любимого малютку, которого уже назвали Альбертом. Не могу тебе передать, как много радости он мне доставляет, когда, просыпаясь, весело смеется или сучит ножками, когда я его купаю”.
Марич отметила, что Эйнштейн ведет себя “достойным отца образом” и проводит время, изготавливая игрушки для своего новорожденного сына, например канатную дорогу, которую он сделал из спичечных коробков и шнурка. “Это была одна из самых любимых игрушек, которые у меня были в то время, и она работала, – Ганс Альберт даже во взрослом состоянии смог ее вспомнить, – из куска шнурка, спичечных коробков и всяческой всячины он мог делать самые замечательные штуки”[240].
Милош Марич был так переполнен радостью по случаю рождения внука, что приехал и привез богатое приданое, составляющее, как гласят семейные предания (возможно, преувеличивая), 100 тысяч швейцарских франков. Но Эйнштейн отверг дар, сказав, что женился на его дочери не из-за денег. Милош вспоминал об этом позднее со слезами на глазах. И действительно, дела у самого Эйнштейна пошли неплохо – после почти года, проведенного в патентном бюро, у него закончился испытательный срок и изменился его статус[241].

Глава пятая
Год чудес: кванты и молекулы
1905
Начало нового века
Рассказывают, что лорд Кельвин, выступая в 1900 году перед Британской ассоциацией содействия развитию науки, сказал: “В физике уже не осталось ничего нового, и открывать больше нечего. Остается только проводить все более точные измерения”[242]. Он оказался неправ.
Ньютон (1642–1727) заложил основы классической физики в конце XVII века. Основываясь на открытиях Галилео Галилея и других ученых, он вывел законы, описывающие очень понятную механистическую Вселенную: падающее с дерева яблоко и вращающаяся по орбите Луна подчиняются одним и тем же правилам, связывающим гравитацию, массу, силу и параметры движения. Причина вызывает следствие, силы действуют на объекты, а теория все может объяснить, определить и предсказать.
Математик и астроном Лаплас, восхищенный ньютоновскими законами, описывающими Вселенную, сказал: “Разум, которому в каждый определенный момент времени известны все силы, приводящие природу в движение, и положение всех тел во Вселенной, смог бы объять единым законом движение величайших тел Вселенной и мельчайших атомов; для такого разума ничего не было бы неясного, и будущее было бы открыто ему точно так же, как прошлое”[243].
Эйнштейн восхищался такой прямолинейной интерпретацией причинно-следственной связи и называл ее “глубочайшей чертой ньютоновского учения”[244]. С легким сарказмом он кратко изложил историю физики так: “В начале (если такое понятие существует) Бог создал ньютоновские законы движения, а одновременно с ними – требуемые для них массы и силы”. Что особенно восхищало Эйнштейна, так это “успешность применения механики в тех областях, которые ничего общего с механикой не имеют”, таких как кинетическая теория, которой он занимался и согласно которой поведение газов определялось взаимодействием миллиардов сталкивающих друг с другом молекул[245].
В середине 1800 годов ньютоновская механика дополнилась еще одним великим открытием. Майкл Фарадей (1791–1867), сын кузнеца и самоучка, открыл электрические и магнитные поля и описал их свойства. Он показал, что электрический ток создает магнитное поле, а меняющееся магнитное поле может создать электрический ток: когда магнит движется относительно петли из проволоки или, наоборот, петля относительно магнита, в ней возникает электрический ток[246].
Работы Фарадея по электромагнитной индукции позволили разным предприимчивым и изобретательным бизнесменам вроде отца Эйнштейна и его дяди конструировать разные новые типы электрических генераторов из катушек с намотанной на них проволокой и движущихся магнитов. Таким образом, юный Эйнштейн о фарадеевых полях имел не только теоретическое представление.
В свою очередь физик Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879), импозантный шотландец с кустистой бородой, вывел замечательные уравнения, которые, в частности, описывали то, как изменяющиеся электрические поля приводят к появлению магнитных полей, а меняющиеся магнитные поля приводят к появлению электрических полей. Переменное электрическое поле действительно может создать переменное магнитное поле, а оно в свою очередь может создать меняющееся электрическое поле и так далее, и в результате этого взаимопревращения возникает электромагнитная волна.
Эйнштейн свое предназначение видел в том числе и в развитии идей великого шотландца (знаковое совпадение: Ньютон родился в тот год, когда умер Галилей, а Эйнштейн родился в год смерти Максвелла). Это был теоретик, сбросивший господствующие предубеждения, который позволил мелодиям математики увести его в неизведанные дали, нашел гармонию, основанную на красоте и простоте теории поля.
Всю свою жизнь Эйнштейн восхищался теориями поля. Например, в учебнике[247], написанном им вместе с коллегой, он так описал развитие концепции поля:
“В физике появилось новое понятие, самое важное достижение со времен Ньютона, – поле. Потребовалось большое научное воображение, чтобы уяснить себе, что не заряды и частицы, а поле в пространстве между зарядами и частицами существенно для описания физических явлений. Понятие поля оказалось весьма удачным и приводит к формулированию уравнений Максвелла, описывающих структуру электромагнитного поля”[248].
Сначала казалось, что теория электромагнитного поля совместима с механикой Ньютона. Например, Максвелл верил, что электромагнитные волны, включая свет, можно объяснить в рамках классической механики, если предположить, что Вселенная заполнена неким невидимым и очень легким “светоносным эфиром” – физической субстанцией, которая совершает колебательные движения при распространении электромагнитных волн. Роль эфира можно сравнить с ролью, которую играет вода при распространении волн по морской глади или воздух при распространении звуковых волн.
Однако к концу XIX века в фундаменте классической физики наметились трещины. Во-первых, ученые, как ни старались, не смогли найти свидетельств нашего движения через предполагаемый светоносный эфир. А изучение испускания света и других электромагнитных волн физическими телами поставило еще одну проблему. На стыке ньютоновской физики, описывающей механическое движение дискретных частиц, и теории поля, описывающей электромагнитные явления, происходили странные вещи.
Но до того, как погрузиться в эти проблемы, Эйнштейн опубликовал пять статей, не получивших большой известности. Они не помогли ему ни получить степень доктора, ни даже найти место учителя средней школы. Если бы он тогда отказался от занятий теоретической физикой, научное сообщество и не заметило бы потери. А Эйнштейн мог бы, продвигаясь по служебной лестнице, сделать карьеру в Швейцарском патентном бюро и стать его главой и на этом месте, видимо, преуспел бы.
Ничто не предвещало того, что он вот-вот станет героем нового annus mirabilis[249], подобного которому наука не знала с 1666 года. Тогда Исаак Ньютон, скрываясь от чумы, свирепствовавшей в Кембридже, в доме своей матери в деревне Вулсторп, смог за год разработать дифференциальное исчисление, проанализировать спектр белого света и открыть закон тяготения.
И вот теперь физика опять готова была совершить кульбит, и именно Эйнштейну суждено было стать человеком, который поможет ей это сделать. Во-первых, у него было нахальство, необходимое для того, чтобы отбросить все наслоения общепринятых теорий, мешающие разглядеть трещины в фундаменте физики. А еще у него было живое воображение, позволившее ему сделать концептуальный скачок, на который не отважились ученые, мыслящие более традиционно.
О прорывах, которые ему удалось совершить в течение сумасшедшей четырехмесячной работы с марта по июнь 1905 года, он оповестил Конрада Габихта в письме, ставшем одним из самых известных личных писем в истории науки. Габихт – его приятель по философскому кружку, названному его участниками “Академией Олимпия”, – незадолго до этого уехал из Берна, что, к счастью для историков, дало повод Эйнштейну в конце мая написать ему письмо:
“Милый Габихт!
Между нами длилось священное молчание, и то, что я его прерываю малозначительной болтовней, покажется кощунством…
Ну а вообще что делаете, вы, замороженный кит, высохший и законсервированный обломок души? Почему вы не присылаете мне свою диссертацию? Разве вы, жалкая личность, не знаете, что я буду одним из полутора парней, которые прочтут ее с удовольствием и интересом? За это я вам обещаю прислать четыре свои работы. Первая посвящена излучению и энергии света и очень революционна, как вы сами убедитесь, если сначала пришлете мне свою работу. Вторая работа содержит определение истинной величины атомов… Третья доказывает, что согласно молекулярной теории тепла тела величиной порядка 1/1000 мм, взвешенные в жидкости, испытывают видимое беспорядочное движение, обязанное тепловому движению молекул. Такое движение взвешенных тел уже наблюдали физиологи – они назвали его броуновским молекулярным движением. Четвертая работа пока еще находится в стадии черновика, она представляет собой электродинамику движущихся тел и меняет представление о пространстве и времени”[250].
Кванты света, март 1905 года
Как Эйнштейн и упоминал в письме Габихту, из статей, написанных в 1905 году, именно первая, а не самая известная – последняя, содержащая объяснение теории относительности, – заслужила определение революционной. Она и на самом деле стала, возможно, крупнейшим революционным прорывом в физике – ведь в ней содержится утверждение о том, что приходящий свет можно представлять в виде не только волн, но и небольших пакетов – квантов света, которые потом окрестили фотонами. Это утверждение, даже более таинственное и странное, чем загадочные аспекты теории относительности, погружает нас в странный и туманный мир.
Эйнштейн признает это, дав этой статье, поданной 17 марта 1905 года в Annalen der Physik, довольно странное название: “Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света”[251]. Эвристической? Это означает гипотезу, указывающую направление, в котором должна решаться проблема, и дающую указания по поискам решения, но никак не окончательное решение проблемы. От первой своей публикации, посвященной квантовой теории, и до последней, вышедшей ровно через пятьдесят лет после первой, незадолго до его смерти, Эйнштейн всегда описывал концепцию квантов света и их непонятных применений в лучшем случае как эвристическую, то есть как предварительную и неполную, к тому же не очень совместимую с его собственными представлениями о базовых принципах природы.
В основу статьи Эйнштейна легли вопросы, мучившие физиков на рубеже XIX и XX веков (хотя фактически ученые задавались ими еще со времен древних греков, да и до сих пор это делают), а именно состоит ли Вселенная из частиц, в частности атомов и электронов, или это неделимый континуум, каким, видимо, являются электромагнитные или гравитационные поля? А если оба способа описания правильны, каждый в своей области параметров, что случается в пограничной области?
С 1860-х годов ученые занимались как раз областью на стыке этих представлений, исследуя так называемое излучение абсолютно черного тела. Как знает каждый, кто имел дело с газовой горелкой или печью для обжига, свечение железа или подобного ему материала меняет цвет при нагреве. Сначала железо кажется красным, при дальнейшем нагреве оно начинает светиться оранжевым светом, потом – белым и, наконец, – голубым. Для исследования этого свечения Густав Кирхгоф с коллегами сконструировали закрытый металлический контейнер с маленьким отверстием, через которое выходило наружу небольшое количество света. Результатом их экспериментов стали графики зависимости интенсивности от длины волны при разных температурах, причем при каждой температуре измерялось равновесное значение интенсивности. Независимо от материала или формы стенок контейнера результаты оставались теми же самыми, форма кривой зависела только от температуры.
Однако оставалась одна проблема. Никто не мог обосновать формулу, описывающую колоколообразную форму этих кривых.
Когда Кирхгоф умер, его профессорская должность в Берлинском университете перешла к Максу Планку. Планк родился в 1858 году в семье, в которой насчитывалось несколько поколений крупных ученых, теологов и юристов. У Планка было многое из того, чего не было у Эйнштейна. Безупречно одетый, в пенсне, немного застенчивый, всегда следовавший принятым решениям, консерватор по складу характера, чопорный в общении с окружающими, он был немцем в лучшем смысле этого слова. Их общий с Эйнштейном друг Макс Борн сказал как-то: “Трудно вообразить себе двух столь разных людей. Эйнштейн – гражданин мира, не слишком привязанный к окружающим его людям, не подверженный влиянию эмоциональных настроений в обществе. Планк же – пылкий патриот, глубоко укорененный в традиции семьи и нации, гордящийся историческим величием Германии и осознанно придерживающийся прусского взгляда на роль государства”[252].
Скептицизм Планка по отношению к атомам и частицам вообще (как к альтернативе волнам и непрерывным полям) обусловлен его консерватизмом. В 1882 году он написал: “Несмотря на огромный успех атомной теории, которым она до сих пор пользовалась, в конце концов она будет сметена, и восторжествует концепция непрерывного строения материи”. По иронии судьбы и Планк, и Эйнштейн войдут в историю как основатели квантовой механики, и оба отступятся от нее, когда станет ясно, что она подрывает принципы прямой причинности и детерминизма, которые оба исповедовали[253].
В 1900 году Планк вывел уравнение, частично, как он выразился, с помощью “случайной догадки”, которое описывало зависимость интенсивности от длины волны при каждой температуре. При выводе уравнения он пользовался статистическими методами Больцмана, которые вообще-то не признавал. Но это уравнение имело некоторую странность: для того чтобы оно правильно описывало зависимости, в него должна была войти константа, равная необычайно маленькой величине (примерно 6,62607 × 10−34Дж/с). Вскоре ее окрестили постоянной Планка h, и теперь она считается одной из нескольких фундаментальных констант природы.
Вначале Планк не имел понятия, какой физический смысл имеет эта математическая константа (если вообще имеет). Но потом у него возникла теория, которая, как он считал, объясняет не природу самого света, а процесс, происходящий при испускании света или его поглощении материальным телом. Он предположил, что любая поверхность, испускающая свет и тепло, такая как, например, стенки модели абсолютно черного тела, содержит “колеблющиеся молекулы” или “гармонические осцилляторы”, похожие на маленькие колеблющиеся пружины[254]. Эти гармонические осцилляторы могут поглощать или испускать энергию только в форме дискретных пакетов или сгустков энергии. Энергия этих пакетов может принимать только фиксированные значения, определяемые постоянной Планка, и не может ни составлять часть от этих значений, ни принимать непрерывные значения.
Планк считал, что его константа – просто математический кунштюк, который объясняет процесс излучения или поглощения, а к фундаментальной природе света отношения не имеет. Тем не менее, произнося доклад на заседании Берлинского физического общества в декабре 1900 года, он сделал важное утверждение:
“Мы считаем – и это является самой существенной частью всех расчетов, – что поток энергии состоит из совершенно определенного количества одинаковых конечных пакетов”[255].
Эйнштейн быстро понял, что квантовая теория подрывает основы классической физики. “Все это мне стало ясно вскоре после выхода в свет фундаментальной работы Планка, – писал он позже, – все мои попытки согласовать теоретические основы физики с этими открытиями полностью провалились. Было похоже, что из-под нас вытащили фундамент, а нового твердого основания что-то нигде не было видно”[256].
Вдобавок к загадке смысла константы Планка возникла еще одна требующая объяснения проблема, связанная с излучением. Проблема называлась фотоэлектрическим эффектом – испусканием электронов из металла при падении света на металлическую поверхность. Падающий свет расшатывает электроны и вырывает их из металла. В письме, которое Эйнштейн написал Марич (между прочим, сразу после того, как узнал о ее беременности) в мае 1901 года, он выражал восторг по поводу “красивой работы” Филиппа Ленарда на эту тему.
Ленард в своих экспериментах обнаружил неожиданное свойство: когда он увеличивал частоту света, двигаясь от инфракрасных (тепловых) длин волн к красным и дальше к фиолетовым и ультрафиолетовым, энергия испускаемых электронов увеличивалась. Потом он стал увеличивать интенсивность, используя свет электрической дуги с графитовыми электродами, в которой яркость света могла меняться в 1 тысячу раз. Поскольку чем ярче свет, то есть чем выше его интенсивность, тем больше поток энергии, логично было бы предположить, что выбитые электроны будут обладать большей энергией и получат большее ускорение. Но в эксперименте этого не наблюдалось. Более интенсивный свет выбивал большее количество электронов, но энергия каждого из них оставалась прежней. Этого факта волновая теория света не могла объяснить.
Эйнштейн размышлял над работами Планка и Ленарда четыре года. В его итоговой работе, относящейся к 1904 году, – “К общей молекулярной теории теплоты”[257] – содержался расчет флуктуаций средней энергии системы молекул. Результаты своего расчета он сравнил с данными эксперимента, в котором исследовался объем, заполненный излучением черного тела, и увидел, что теоретические и экспериментальные результаты согласуются. Последняя фраза статьи звучала так: “Я думаю, что согласие… невозможно приписать случайности”[258]. Сразу после завершения этой работы 1904 года он написал своему другу Конраду Габихту: “Теперь я нашел самое простое соотношение между величиной элементарных квантов материи и длиной волны излучения”. Таким образом, похоже, Эйнштейн уже был готов к построению квантовой теории, то есть к тому, чтобы заявить, что поле излучения состоит из квантов[259].
В статье о световых квантах, вышедшей годом позже, в 1905 году, он как раз это и сделал – взял математическую константу, которую ввел Планк, соотнес с результатами Ленарда по фотоэлектрическому эффекту и стал рассматривать свет так, как будто он не является непрерывной волной, а действительно состоит из точечных частиц, названных им квантами света.
Эйнштейн начал свою статью с описания огромной разницы между теориями, основанными на концепции частиц (например, кинетической теорией газов), и теориями, использующими непрерывные функции (например, для электромагнитного поля в волновой теории света). “Существует глубинное формальное различие между теориями, которые физики построили для газов и других тел с массой, и теорией Максвелла, описывающей электромагнитные процессы в так называемом пустом пространстве, – пишет он. – В то время как мы считаем, что состояние тела полностью определяется положением и скоростями очень большого, но конечного числа атомов и электронов, для того, чтобы описать электромагнитное состояние данного объема, мы используем пространственно-непрерывные функции”[260].
Прежде чем дать обоснование своей корпускулярной теории света, он подчеркнул, что не обязательно отказываться от волновой теории, которая будет оставаться полезной. “Волновая теория света, которая имеет дело с непрерывными пространственными функциями, хорошо работает в чисто оптических явлениях и, возможно, никогда не будет заменена другой теорией”.
Его способ совмещения волновой и корпускулярной теорий состоял в том, чтобы “эвристически” считать, что наше наблюдение волн включает статистическое усреднение положений бесчисленного количества частиц. “Нужно иметь в виду, – говорил он, – что при оптических измерениях наблюдаются усредненные по времени, а не мгновенные величины”.