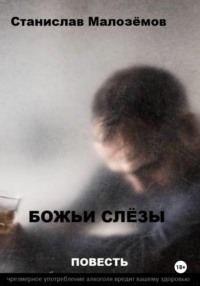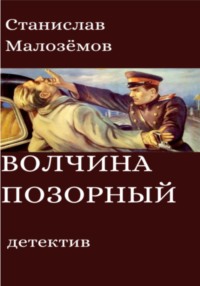полная версия
полная версияОт дороги и направо
И ты представляешь – дошли слова-то. С того дня – ни капли. Дом по новой отскоблила-покрасила-помыла, лимоны завела, вышивать стала, петь ходит в клуб, в кружок вокала. Замуж пытается выскочить, молодость тужится вернуть. Сам же видел? А ей уже сорок шесть в ноябре щёлкнет. И пока не получается ни замуж, ни помолодеть. Краской на волосах да на морде, ну и кофтами попугайскими, из которых титьки высовываются, молодость обратно не заманишь. И мужика нормального не затянешь. Да нормальные, они все с женами да детишками. Несчастная баба. Жалко её. Летом огурцы и морковку вырастит и продает. А чего с них, с огурцов, деньги что ли? Ну, вот я ей плачу за квартиру и за еду. Ничего. Уже полегче ей…
– Так это ты и за меня заплатил сейчас? – перебил я.
– Ну, а как? Нас же двое. – Лёха посмотрел на часы. – Ехать надо. Пора.
– А мне тебе отдать нечего. Ни копейки нет. Карман подрезали на катере в первый же день.
Лёха покрутил пальцем у виска
-Лучше бы я тебя утром переехал. – он уже шел к трактору и почти правильно свистел мелодию Битлов «Yesterday».
Красный дом с синей крышей я нашел, считай, мгновенно в связи с ускоренным спуском с холма. Во время которого, между прочим, успевал замечать удивительные, аккуратные домики с точеными орнаментами и резными инкрустациями в ставни и под крыши. И в каждом окне росли лимоны, лимоны и лимоны, от которых к концу пробега в глазах моих прыгали ещё минут пять золотисто-желтые круги.
Лысый Максим Михайлович в майке цвета сочинского загара и в голубых парусиновых штанах сидел на лавочке у ворот и читал газету «Труд» с удивленным выражением на довольно красивом суровым мужском лице.
Я поздоровался, сказал кто я, откуда и зачем пришел к нему в гости. Не отрывая глаз от удивившего его текста, Максим Михалыч подвинулся на скамейке, что означало: садись, подожди. Сейчас дочитаю. Я сел и тоже заглянул в газету. Там выделялся крупный заголовок «Французские фермеры хотят купить пятьсот гектаров земли в Вологодской области». Статья под этим заголовком удивила Михалыча так сильно, что он уже и не читал, а просто уставился в то место, где была статья и, похоже, пытался избавиться от удивления.
– Да ктоо ж им про-одаст землю, дуракам! – подвел он итог чтения.– У нас не проодается земля. Оона го-осударственная. Воот дураки-тоо. Землю вздумали по-окупать. Билеты воон по-окупай и чеши обратно-о. К женам французкам. И делай там сыр, лягушек вари, виноо делай. Тьфу ты. – Михалыч отложил газету и протянул мне руку: – Максим Михалыч я. А ты?
– Я Станислав. Из Нижегородской газеты корреспондент. Хочу вот посмотреть ваш дом и двор.
– Этоо запросто-о! – с пафосом сказал Максим Михалыч и здоровенной рукой, не отрывая зад от скамейки, распахнул калитку.– Воон дво-ор. Иди смоотри по-ока. А я тут до-очитаю и тооже приду.
Я переступил порожек калитки и замер от фантастического видения.
С левой руки по кругу в правую сторону двор был заселён кадушками и кадушечками с лимонами и юными лимончиками. Стоял этот почетный караул в три яруса. Самые большие укрепились на земле. За ними на скамейках невысоких были кусты не такие могучие, а ещё дальше ряд – на скамейках с длинными ножками – уплотнен был начинающими лимонами. Пацанами. Нет, с почетным караулом я погорячился. Лимоны, стоящие в три ряда друг за другом были больше похожи на хор. Церковный, или имени Пятницкого, а может самодеятельный из клуба, но напоминали они стройный хор. И на мгновение я даже с испугом представил, что сейчас они запоют. Ну, там, скажем, приблатненную песенку «Лимончики». Но, слава богу, они мирно паслись прямо под тёплым небом, раскинувшись в разные стороны ветками, усыпанными желтыми, похожими формой на куриные и утиные яйца, лимонами. Они честно тянули срок отсидки под голубым небом, впитывали в себя солнце, толстели и усердно вырабатывали хлорофилл.
Сзади, сворачивая на ходу газету вчетверо и тяжело топая по земле отечественными страшными плетенками, подкрался Максим Михалыч.
– Такоое видал ко-огда нибудь где-нибудь? – засмеялся он хрипло и громко. Слова, смех и хрипотца от беспрерывного, видимо, курения, все вместе произвели над моим ухом эффект громового раската. Голос у Михалыча был на два тона ниже, чем обычный мужской, и он вполне мог бы петь басовые партии в опере или в церкви. Но он разводил лимоны. Причем во дворе купалась в солнечной погоде всего, наверное, треть его богатства. Потому как в доме все два этажа были забиты этими замечательными растениями от пола до потолка. Ходить там было негде. Просто невозможно. Мебели никакой Михалыч не держал. За лесом раскидистых кустов с плодами и без них фрагментами проглядывалось что-то, напоминающее кровать. Не было даже стола. Вернее стол был, но на нем по всей площади росли в горшках молодые лимоны.
-Ну?– прогромыхал Михалыч.– Чего не фо-отоографируешь, ко-орреспоондент? Давай по шустрому. Я тебе потом ещё два чуда покажу!
– Вон там что, кровать? – Я достал свой «Зенит TTL» из портфеля. С футляра на пол ссыпалась почти горсть мельчайших крошек от пряника.
– А мне на по-олу надо-о спать? – страшным басом заржал Михалыч.– Кровать, а то что же ещё. Спать хоожу по-олзкоом по-од нижними ветками. Поока про-олезаю. Хотя, гадость такая, уже стоо десять кило-о воо мне. Старею по-отому чтоо. Споорт бро-осил десять лет тоому назад. Гиревик я был уважаемый тут. О-область выигрывал раз пятнадцать. На Со-оюзных выступал. Где-тоо есть по-од крооватью в чемо-одане медаль броонзо-овая.
-У меня тоже есть шесть штук медалей за областные и республиканские соревнования. Одна золотая, остальные серебряные. Я легкоатлет. Первый разряд А уже семь лет карате ещё занимаюсь. В армии начал.
Я так увлеченно расхвастался, что перестал фотографировать.
Михалыч посмотрел на меня как на любимый куст лимона и прогудел что-то про то, как он уважает спортсменов, спорт вообще и меня в частности за мои успехи, а ещё минут десять его могучий голос произносил оды всем видам спорта. Не назвал он только шахматы.
На этой теме мы с ним душевно срослись и укрепились в добрых чувствах друг к другу. И он повел меня в другую комнату, в свою святая-святых: в лабораторию селекционера, показывать первое чудо. В светлой комнате на окнах, на полу и на стенах располагались разнокалиберные аквариумы, на четверть заполненные цветной желто-зеленой жидкостью. Как он прикрепил аквариумы к стене, я даже спрашивать не стал, поскольку после часа, проведенного в его доме, я понимал уже, что Михалыч может всё. Как старик Хоттабыч.
Аквариумы были забиты под завязку веточками лимонов с маленькими, только просыпающимися листиками.
– Ни фига себе! – выскочили из меня восторженные слова, которые на практике обозначают сразу много чувств: удивления, восхищения, потрясения и похожих других.
– Воот моя жизнь. Оона тут. В о-одну коомнату вмещается вместе с черенками.
– Зачем черенки, когда готовых лимонов девать некуда? – Я вытащил осторожно, как живое, хрупкое маленькое существо, тонкий прутик с десятью крошечными листиками, только что проломившими почку.
– Воот о-они меня коормят. О-они мне дают деньги на эксперименты и выведение ноовых со-ортов. У которых и здоровье получше и урожаи побольше. – Михалыч бережно забрал у меня черенок и аккуратно вставил его обратно в общую массу. – Я проодаю их туристам со-о всей страны, зарубежным гоостям и целым о-организациям. В Сибири моои лимоны о-от этих черенков живут. На Кавказе, где и сво-оих полноо, мои лимо-ончики боольше любят. В Туркмении мо-оих мно-огоо, у узбеков, да воон в Мо-оскве самоой поочти миллио-он черенкоов мо-оих лимо-онами стали, а в Нижнем во-ообще не соосчитать.
Потом он рассказывал громко, сотрясая голосом жидкость-подкормку в аквариумах о том, что мечтает по всему миру павловские лимоны распустить, потому как они несравненны с любыми другими и расти будут везде. Хоть за полярным кругом. Он размахивал руками, бегал от аквариума к аквариуму, доставал и показывал разные черенки от разных сортов лимонов. Попутно он очень радовался тому, что Павлово уже стал лимонным брендом в СССР, а не только кузнечным и самоварным, ножевым и замковым. И очень благодарил того неизвестного, забытого теперь по имени купца-турка, который ещё в 1860 году привез и подарил павловцам каких -то пять-десять черенков. С них и началось всеобщее помешательство всех без исключения павловцев на этих экзотических фруктах.
Выдохнув после изматывающей энергичной речи, Михалыч вытер рукавом вспотевшую лысину, закурил, закашлялся, сел на корточки и сказал, гулко и сипло:
– Ну, тут всё! Этоо ты увидел, поонял и запо-омнил. А теперь поойдем во-о дво-ор сноова. По-окажу чудоо но-омер два.
За хоровым строем дворовых лимонов он установил синий забор из штакетника. Забор тянулся от калитки метров на тридцать влево и вправо на пятьдесят примерно. Через дырки в штакетнике были видны низкие кусты синего же цвета. Как сам забор. Когда мы зашли в калитку, я остановился, будто меня прибили к земле большими гвоздями. Я увидел реальное чудо. Примерно тысяча кустов были синими от продолговатых небольших ягод. Точнее даже – сами ягоды были не синими, а тёмно-голубыми с сизым налётом. Они облепили кусты как маленькие летучие мыши любимую стенку в пещере. Руку невозможно было просунуть до главного ствола, чтобы не задеть десятка три ягод.
– Что это? – проглотив слюну, выдавленную вкусным видом всего ягодного изобилия, сказал я чужим, по-моему, голосом.
– Татарская жимо-олость! – Максим Михалыч гордо поднял к небу указательный палец. – Местноое чудо-о-ягоода. Нет боольше ни у ко-ого. Тоолько-о у меня. Проодаю даже за границу. Ну и своои разбирают по-о десятку килоограммов. По-о ведру минимум. Нижего-ороодские берут, моосквичи приезжают с десятко-ом ящикоов в багажниках. Поойди, со-орви, попро-обуй. Рассказывать потом будешь народу. Про меня гоово-ори: где живу, как найти. Пропаганду делай мне.
Я забылся в кустах минут на двадцать. Съел килограмма два, не меньше. И оторваться сил не было. И совесть куда-то канула, как и не было её никогда.
Вышел я из зарослей жимолости татарской с голубыми губами и пальцами.
Михалыч ещё полчаса рассказывал о том, как выгодно выращивать сразу илимоны, и черенки, и жимолость. Мы в конце встречи долго прощались, трясли по-мужски мощно руки, похлопывали друг друга по плечу и обнимались.
– Воозьмешь черенка три?– спросил он – Я тебе так дам, бесплатноо. По-одарю.
Я, конечно, вежливо отказался. Куда мне с черенками деваться? Как их сохранить? Где я буду завтра и что подкинет мне новый виток забега по замкнутому пока кругу, не было ясности и даже расплывчатых предположений.
Через час я, пахнущий ароматом ягоды и цитрусами, уже сидел на обрыве выше Оки, на том же месте, где вчера лег спать. Я бросил портфель рядом на траву, свесил ноги с обрыва и разглядывал мелких человечков, копавшихся на берегу возле лодок, изучал хлипкие строения из досок и фанеры, поставленные чуть выше, воды и ждал. Чего ждал, не знаю. Сидел я так минут десять, не больше. До тех пор, пока один из плохо различимых человечков не замахал руками, не засвистел и не закричал, перешибая голосом громкий шелест бегущей большой воды: – Эй! Там, наверху! Чего сидишь? Спускайся!
Я стал спускаться, потом вернулся, взял забытый портфель и побежал в то место, откуда меня позвали.
Кто позвал, зачем и что будет дальше знал, видно, один только Господь Бог, в которого я тогда еще не верил, но чьей воле не имел сил сопротивляться. Оставляя за собой шлейф песка и пыли я бежал в объятья новых неизвестных и бесконечных приключений человека без денег и паспорта.
Глава седьмая
Пыль с мелкими камушками и влажным песком долетели до встречающих меня внизу рабочих намного раньше, чем из порошка пыли и песчаного занавеса обозначился я сам. Поэтому на подлете к мужикам я с минуту слушал однотипные, чтимые в народе матюги, общий смысл которых означал: – Ну, ты, парень, почему так неаккуратно спускаешься!? Вон, полные рты и глаза у нас пыли твоей. Маме твоей мы бы передали, что у неё не в ту сторону воспитанный сын! Ради какого удовольствия ты несёшься, словно дикий мустанг?
Реальный текст я передать здесь не могу. Мама всё же воспитала меня правильно и научила фольклорную мужскую лексику прилюдно не использовать и, тем более, не оскорблять ею речь письменную, литературную. Когда на берег упала последняя песчинка и сдуло вбок навязчивую пыль, я увидел шестерых мужиков, которые протягивали мне черные от какого-то дела ладони. Я интуитивно ждал летящих в лицо кулаков и держал руки с портфелем перед собой. Портфель закрывал лицо и пробить его через пряники двухнедельной спелости было пустой тратой времени и сил.
– А человек-то где? – заржали все шестеро и пригнули портфель с моими напряженными руками ниже пупа – А туточки! А вот, ядрена мать, человек-то! Ты кто, красавец? И чего второй день торчишь тут наверху как хрен в огороде? Не шпион? Не из ОБХСС, нет?
– Наиль, – первым подал ладонь огромный молодой парень, похожий на метателя молота и Илью Муромца одновременно.– Из Казани.
– Грыцько я, – длинный жилистый мужик лет сорока пожал мне руку напоказ крепко. Если бы я закрыл глаза, то мне показалось бы, что на руку наступил слон. Я глаз не закрыл, а тоже сдавил его пальцы и ладонь всей моей силой, вынутой на мгновение из прошлых девятнадцати лет занятий спортом. Грыцько слегка побледнел, после чего сбросил хватку и потряс руку аккуратно, дружески. – Ото ж ты к нам на хвылину прийшов, чи шо? Мову-то разумеешь?
– Да, всё понимаю. – Я поставил портфель рядом и поздоровался за руку с остальными. Один был плотный, маленький, мощный, с выпуклой грудью и квадратным лицом. Назвался Евгением из Ярославля.
Четвертый, с желтоватым лицом больного желтухой был из Таджикистана. Имя он носил, противоречащее внешности – Пахлавон. Богатырь, значит. У нас в ВКШ был Пахлавон. Худой, маленький, с редкими как у кота, усами и такой же бородкой. Этот Пахлавон был практически такой же, только без усов, но с плотной, великоватой для его лица черно-рыжей бородой. Видно, родились недоношенными оба и родители вложили через имя в них свою мечту – вырастить своего сына богатырём.
Пятого мужичка, которому уже явно было даже не пятьдесят, звали Анатолием. Он попросил, чтобы я называл его Толяном, как все здесь. Наверное, через имя Толян, он ощущал растрепавшуюся о жизнь, но не забытую пока молодость. Рукопожатие у него было быстрым, твердым и коротким.
Последний, шестой работяга выглядел приятно, даже аристократизмом веяло от него. Тонкие пальцы, тонкий рот, изящные движения, как у танцора -примы из Большого. Руку он подал так, как дают подержать драгоценный камень карат в пять минимум. Он раскрыл её от локтя и свесил плетью, распустив подрагивающие пальцы. Я осторожно и бережно поздоровался с ним и спросил как его зовут.
-Дмитрий Алексеевич, композитор крупных форм. Симфоний и многих вариационных опусов. Сейчас пока прозябаю в творческом застое. Так сказать, в кризисе вдохновения.
Я уважительно слегка поклонился, отпустил его руку и сделал шаг назад. От Дмитрия Алексеевича несло стремительно развивающимся перегаром какого-то ядовитого напитка типа тормозной жидкости. Глаза его, потушенные похмельем, были печальны и тусклы. Понятно было, что муза, как и жена, развелась с ним минимум десяток лет назад. Наверняка он помнил нотный стан и скрипичный ключ, но что с ними надо делать, беспрерывное общение с разнообразной бормотухой помогло забыть насовсем уже давно, безнадёжно и безвозвратно.
Ну, поздоровались. Надо же было что-то и дальше делать. Говорить, например. Они молчали и глядели на меня одинаково. Вопросительно глядели. То есть от меня автоматически должно было прозвучать обоснование моего настырного двухдневного желания спуститься к ним.
Я опустился на корточки. Открыл портфель, достал сначала пряник, большой как книжка, и подал его Евгению, мощному коротышу. Он стоял ко мне ближе. Евгений за пять секунд разделил пальцами толстый и поживший в портфеле неделю пряник на семь одинаковых фрагментов. Сделал он это без малейших усилий и раздумий. Просто порвал пряник как лист папиросной бумаги, да такими одинаковыми кусочками, что я просто оторопел. Никогда такого не видел. Сила – силой, это одно. Понятное дело – сила. А как получились равные куски?
Пока я стирал с лица своего глуповатое выражение, Евгений раздал разорванные дольки всем. И мне тоже.
-Нет, мне-то зачем? – я улыбнулся и протянул свой кусочек обратно. – Я их уже четыре штуки съел. Целых.
– Брат, не знаю пока как тебя зовут, – Евгений прихватил мою ладонь и мягко вложил в неё мою долю, – но ты имей для себя в памяти. Тут всё у нас одно на всех и всегда всем выпадает поровну. Ты ж теперь, если я не путаю, с нами? Ты ж здесь не за тем, чтобы спросить про наше здоровье? Потому, что ты не доктор. Докторов я много видел всяких. Ты, наверное, спортсмен, судя по виду. Получил травму. Выступать и даже тренироваться тоже не можешь, а больше, как почти все спортсмены, делать ничего не умеешь. Теперь ищешь работу временную. Перебиться в тяжелое время. А искать попутно будешь постоянную. Так?
Ну, тогда я стал рассказывать им всю мою историю, начиная с окончания Высшей Комсомольской Школы и кончая трактористом Лёхой, который и посоветовал мне попроситься в команду ватага Музафарова. Слушали мужики меня без эмоций, молча, не перебивая. Наиль сел на нос одной из лодок, привязанных своими цепями и толстыми веревками к одному швартовочному канату. Канат был петлей накинут на железный кол, вбитый в берег.
В конце моего душещипательного, как я считал, повествования, Наиль зевнул и достал из-под лавки свернутый матрац, раскинул его через две скамейки от носа к корме и каким-то хитрым способом, не проваливаясь, лег на него и закрыл глаза. Грыцько снял брюки, рубаху, кеды, расстелил брюки на песке, сверху уложил рубашку и на неё кеды. Потом свернул всё это в рулон. Получилась подушка. Её он аккуратно пристроил к большому камню метрах в двух от воды и уложил на неё голову. Туловище, на котором остались только майка, длинные черные трусы и носки, Грыцько бережно уронил на песок и повернулся на бок лицом ко мне.
Композитор Дмитрий Алексеевич слушал мою навороченную событиями историю с приоткрытым ртом и нервно тер тремя пальцами отворот своего старого, бесцветного от постоянно жгущего солнца пиджака. Толян, единственный, задумчиво слушал, но глядел мимо меня на темнеющую воду Оки и жевал губами в моменты самых печальных моих интонаций. Евгений лег на живот, локоть воткнул в песок, а на кулак поставил подбородок. Он глядел на меня так, будто смотрел фантастический фильм про инопланетян, изредка вставляя между моими словами тихий многозначительный комментарий: – «Во, мля!»
Но по выражению лица его было понятно, что похождения мои его не потрясли. Скорее, он комментировал их из вежливости. И только таджик Пахлавон ловил каждое слово, из которых понимал, может, половину. Но слушал он, кивая невпопад головой и потирая ладони, чем и обозначал свой интерес к моему забавному отрезку жизни.
Когда я закончил, богатырь Наиль уже давно храпел в лодке громче, чем волна, бившая гребнем борт. Композитор сказал многозначительное: «Бывает так. А бывает и хуже». И пошел подальше от берега. В кусты.
– Тебе надо бугра дождаться. Он подъедет скоро. Зови его только Ватаг. И всё вот это же повтори, что нам сейчас говорил. – Евгений поднялся, сделал несколько приседаний, разделся догола, заскочил с разбега в пустую лодку и прыгнул вниз головой под волну.
– Всегда купается на ночь – засмеялся Толян. – Я ему сколько уже талдычил, что потонет когда-нибудь. Всё равно ныряет. Здоровье, говорит, требует воды. А вода несет его, здоровье хорошее, вон оттуда. Толян показал влево, откуда лилась Ока, в наступающую темноту.
Наверху, на дороге, ведущей к мастерским на берегу, заскрипел, затрещал всеми деталями, явно не новый мотоцикл. Он протарахтел над нашими головами и звуки скрипа и щелчки выхлопной трубы стали глуше и дальше.
– Бугор едет.– Евгений начал сложными телодвижениями вынимать себя из воды. По опробованной, видно, не раз дуге, навстречу волне и одновременно навстречу берегу он легко вышел из течения на берег и, ничем не вытершись, оделся. – Да, Музафаров едет. Чего привезет, интересно? А ты, Станислав, всё ему повтори, но скажи, что просишься на месяц. Чтобы взять денег тут. На дорогу до… Как его? А, до Кустаная. И не забудь, зови его только ватагом. Понял?
– Спасибо, понял. – Я почему-то взял машинально портфель. – А он сам подойдет, или мне идти?
– Подойдет, конечно, – снова засмеялся Грыцько. – Он же папиросы привез. Тушенку. Хлеб. Бугор же он! Значит должен рабсилу кормить и травить никотином.
– А водку он вам тоже возит? – Я поправил на себе майку-лапшу и брюки, пятернёй пригладил волосы, но вечерний бриз вернул прическу в привычное уже неказистое состояние.
– Водку, кто хочет, сам ходит брать. В Павлово. Да у нас тут и не пьет никто. Некогда, да и работать потом замучаешься. Ну, а ещё просто денег жалко. И так копейки дают. – Толян заправил рубаху в штаны, равномерно распушил её вокруг талии и ехидно глянул в сторону удалившегося в кусты надолго композитора. – Ему одному не жалко. Ни денег, ни себя. Иногда так колотит его, бедолагу, с бодуна, что ползком ползает или лежит и зовет Господа Бога, чтобы прибрал его к себе. Не слышит, видать, его Боженька. А и слышит, так не берет. На хрена ему такой доходяга? Он там весь ад заблюёт и всех чертей споит, прости господи за упоминание чёрта.
Тут из сумерек как привидение во всем белом и с белым мешком прорисовался сквозь мрак и вскоре истинно не пришел, а именно предстал пред нами, заблудшими, бугор. Ватаг. Начальник и наместник Бога на этом участке Оки. Камиль Музафаров. Однако, никто из бригады в строй не построился, честь не отдал бугру и оду ему не спел. Все как валялись на песке, так и остались. Один Пахлавон мелким шагом, слегка согнувшись, прислонил ладони к груди и просеменил до подножия начальства. Музафаров, не глядя на таджика, разжал руку и мешок полетел в песок. Но со стороны мне казалось, что действие шло в рапиде, то есть в замедленном режиме. И мешок падал как большой кусок тополиного пуха, невесомо и долго. А Пахлавон без особых усилий, так же протяжно отправил к вершине мешка свою слабую руку и не дал мешку коснуться песка. Это всколыхнуло во мне приступ тайного восторга, которого, естественно, никто не заметил.
Таджик, семеня пореже, приволок на весу мешок к Евгению и аккуратно поставил его рядом.
– Там двадцать пачек «Севера», десять пачек чая, хлеба шесть буханок, тушенки двенадцать штук, лимонад «Крем-сода», бумага, конверты, три ручки, две колоды карт и брезентовых перчаток шесть пар. – Бугор достал из кармана белого пиджака свернутый в четыре раза белый шелковый платок,
Развернул его и аккуратно разместил на песке. Сел на платок и спросил с улыбкой: – Как, доходяги, дела? Смертельные случаи есть? Нету. Хорошо. Лодки Петровского и Моторина просмолили? Катер с того берега «Быстрый» покрасили выше ватерлинии? Гудрона девять бочек спустили сверху, которые асфальтный цех привез? Ну и последнее. Моторку егеря покрасили желтым нитролаком?
– Всё как по заказу, ватаг, – встал с песка Толян. – В лучшем виде заделали всё задание. И к тому вдобавок ещё один нужник поставили из тех досок, какими катер с того берега расплатился за покраску.
– Нужник – оно надо всем, – похвалил ватаг, закуривая. – Ну, а, скажем, лодку Петровского на два раза прошли гудроном, как я просил?
– Она у Петровского из бумаги что ли сделана? – с вопросительной интонацией сказал Евгений, но получилось утвердительно. Мы её четыре раза прошли, Последний раз не факелом, а по холодному шпателем. Года три он на ней теперь походит. Но потом она у него сдохнет все равно. Дай бог, чтоб не на середине реки.
Доклад Музафарова удовлетворил. Он докурил папиросу. Замял её каблуком бежевой сандалеты между камешками в песке, поднялся со скрипом. Остеохондроз, похоже, в коленях имел. Потянулся, подняв руки, прогнулся назад поясницей и выпрямился. Меня он увидел сразу, когда пришел, но вел себя так, будто меня не было. Он отряхнул брюки, хотя на них и пылинки не висело, постучал одной сандалетой о другую, ту же не существующую пыль сбивал, и сказал задумчиво: – На эту неделю вам почетное задание вышло. Подгонят вам послезавтра речной трамвайчик. Это машина председателя профкома с «ПАЗика». У посуды этой трещина по левому борту. Зацепил под берегом свежую корягу. А шел под десять узлов. Продрал как щеку бритвой. Надо по уму сделать, со шпаклей, потом клеем яхтовым, потом грунтанёте и краску такую же, как на всем трамвайчике – на два слоя валиком. Краску завезут они сами. А яхтовый клей Морозов завтра закинет. Четыре трехлитровых бадейки.