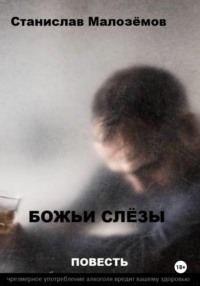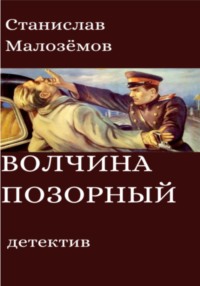полная версия
полная версияОт дороги и направо
Глава пятая
То, что я еду домой, было решено с помощью одного пристального взгляда на звёзды. А, возможно, там, на какой-нибудь тусклой, самой далёкой звезде как раз и жил Вселенский разум. И я-то его не разглядел, потому как возможности ума и проницательности у меня земные, скудные. А он, Разум, всеобщий. Всех вразумляет, кого успеет заметить. Вот меня, видно, засёк. Вовремя, значит, я наверх глянул. Хотя ещё только смеркалось и отсюда звёзды только проклевывались в темнеющей синеве. А оттуда, наверное, всегда всё видно, слышно и ощутимо.
В Бога я не верил. Верил в прозаическое земное электричество и в неземную могучую всесильную и всемогущую вечную Энергию, сплетенную из тысяч разных всяких энергий. В Сверхсилу, управляющую жизнью всех Вселенных и всем, что в них крутится-вертится. Верил я в него как в собственное отражение в зеркале.
Ну, это был как бы рупор судьбы, фатум и руководство к действию. Фатум был за немедленное возвращение в Кустанай, на родину. Минус был только один: вершитель судьбы моей никак не посоветовал сверху: что конкретно я смогу такое совершить волшебное или колдовское, чтобы добраться до дома без копейки денег, документов и приличного внешнего вида, утерянного в пыли дорог, чужих постелей и ночевок под прибрежными кустами. Не сделав ещё ни одного движения в сторону, подсказанную судьбой, я понял главное. Оно заключалось в проблеме, скинуть которую с горба могло помочь только чудо. А поскольку других вариантов Вселенский Разум не подсказал, я нагло наметил себе совершить чудо самолично, без помощи и поддержки фатума, рока и судьбы-индейки.
Вечером в чужом и непонятном городе, если ты не турист, (который тщательно изображает страсть к узнаванию неизвестного), чувствуешь себя в меру паршиво. Особенно, когда не знаешь, где поесть и без приключений поспать. Я пошел прямо от дома, где жил дядя Яша, у которого на единственном колене уже, наверное, терпеливо отсиживала положенный предварительный срок желанная на всю ночь женщина. Прямо – это неизвестно куда. Я и днем-то по городу не успел побродить, поэтому в память не упал никакой конкретный путь. Шел просто по улице, на которой фонарей, естественно, не было задумано. Поэтому маяками для меня работали мутноватые от торчащих на каждом окне лимонных кустиков огни лампочек ватт по шестьдесят. Я знал уже от учителя Шапошникова, что город стоит на семи довольно крутых холмах и улицы поэтому с холмов бросались вниз как потенциальные утопленники, с отчаянием от безвыходности. Они падали до конца одного холма и оказывались прямо у похожего подножья холма следующего.
Если сверху улицы смотреть вдаль, то кажется, будто соседний домик стоит километрах в трёх от предыдущего. Все остальные утонули в глубине впадины. Знать, что они там есть, могли только местные, свои. Со всех сторон, на спуске и подъеме с улицы и во дворах павловские жилища заросли большими и маленькими деревьями, какими-то незнакомыми мне кустарниками с голубыми и желтыми ягодами. Они прятали аккуратные, увитые разномастной резьбой домики. Город был, но его как бы и не было. Он хранился от чужих завистливых глаз в глубинах и на высотах холмов, почти незаметный в полутьме. И от этого над всеми семью холмами города Павлово-на-Оке кружилась замаскированная под облака добрая сказочная тайна древнего поселения. Но тогда какая-такая нелегкая случайно занесла городок чьей-то шальной волей на бугры да в ямы?
С этими философскими упражнениями в уме я и спустился с холма, и поднялся на холм. По дороге, конечно, возникало неосмысленное желание постучаться в какой-нибудь забор архитектурой попроще и попроситься переночевать. Но мешала пословица или, может, поговорка о том, что не зная броду нет смысла лезть в воду. Может быть тут не принято пускать на ночь в дом приблудного юношу. Хотя, по сказкам помню, Русь славилась вот как раз таким спонтанным гостеприимством. Заходи, поживи любой, коли крова нет. Но то, однако ж, сказки, хоть и народные.
По другой стороне улицы шла молодая мама с пятилетним дитём, орущим типичную для малолетних попрошаек невнятность.
– Девушка, добрый вечер! – крикнул я, хотя улица была узкая. Можно было и шепотом спросить. – Скажите, а где я сейчас, на какой улице и где центр города?
– Здравствуйте! – женщина подтянула поближе к бедру горластого сына и он заглох мгновенно, как машина, у которой кончилась последняя капля бензина. – Так Вы уже фактически в центре. Сейчас вверх метроов сто-о, по-отоом на углу увидите статую кузнеца с мооло-отоом. Воот перед ней по-оворачивайте налево. Про-ойдете квартал и поовернете направо-о, на Нижегороодскую. Самый центр. Магазины ещё рабо-отают. А музеи уже закрылись. Надоо было-о по-ораньше вам.
– Нижегородская – это бывшая Торговая? – я уже пошел вверх. – Спасибо!
– Торговая, да! – крикнула вслед женщина, после чего, видно, отторгнула пацана от бедра и он снова заорал что-то типа « А Ваньке мамка купила, а ты мне не купила!»
По Торговой улице идти стало легче. Она бежала ровно, не подпрыгивая и не ныряя в темень. Да и темени на ней не было. Фонари, подсвеченные витрины магазинов, неоновые названия столовой, музеев и дома культуры «В свободный час» успокаивали светом и устраняли чрезмерную таинственность темноты. Плюс два каких-то административных солидных здания, швыряющие на брусчатку площади щедрую порцию света почти из каждого своего окна, делали город похожим на город. Маленький, но симпатичный своим странным сочетанием домов девятнадцатого и начала двадцатого веков с неоновыми, разноцветными, небрежно танцующими буквами и люминесцентными фонарями, которые превращали начинающуюся ночь в день. Пусть хотя бы на одном, но довольно сильно расплющенном пятаке центральной площади.
Я сел на скамейку возле музея замков, в котором был днём и достал из кармана «Приму». В пачке вольно болталась последняя сигарета. Я сунул руку по локоть в свой могучий портфель и, не заглядывая, разводил в стороны вечные пряники, блокноты и ручки, бритвенный прибор с кисточкой и московским одеколоном «Арамис». Сигарет в портфеле не было. Незаметно выкурил все пять пачек за три дня. Это означало, что дальше все события будут выглядеть более нервными потому, что без курева я становился суетливым и злым.
Вспомнил дядю Яшу и его папиросы «Байкал», издающие терпимое курильщиками зловоние табачных отходов. Ну, это когда в папиросу суют табак чуть ли ни от самого корня до макушки, включая сюда стволик растения и исключая листочки. В народе такой убогий табак называют – «филич». Я сейчас с радостью подымил бы сразу парочкой байкальского «филича». Но в моей пачке ждала своего часа последняя сигаретка, а впереди маячила ночь без сна под крышей и хотя бы на раскладушке.
Спать было негде. Ну, я вспомнил Городец, ночевку в доме культуры меж бильярдных монстров-столов, вполне годный для мирного сна матрац и решил трюк с очередным очагом культуры повторить. По пути выкурил треть «примы», аккуратно примял «охнарик», бережно поместил его в пачку, свернул пачку почти в рулон и опустил драгоценность между двумя блокнотами. Для надежности. Дом культуры «В свободный час» светился мягким приглушенным светом в большом вестибюле. Я постучал кулаком в стеклянную дверь. Ничто в вестибюле не изменилось. Не мелькнула в недрах холла тень бдительного сторожа, не завыла охранная сирена, не зазвенел чуткий к проникновению без разрешения звонок. Я колотил дверь еще минут десять, пинал её ногой. Очаг культуры безмолвствовал. Тогда я пошел вдоль здания и стучал во все темные и освещенные окна, попутно выкрикивая одно почти волшебное слово «Эй!» Через полчаса я натурально подустал, посидел на гранитных ступеньках Дома культуры еще немного и дошло до меня, что его просто никто не сторожит, поскольку содержимое дома не привлекает даже мелких форточников. Взял портфель, сделал круг почета по периметру площади и стал ждать хоть какой-нибудь автомобиль, в котором точно будет хоть один живой человек.
Автобус, видимо последний, приехал на площадь к музею самоваров минут через двадцать. Я подбежал к нему как собака к ноге хозяина и, заглядывая в глаза водителя, спросил, не довезет ли он меня до набережной Оки?
Шофер заулыбался, как будто ночью в родном городе напоролся на звезду экрана первой величины.
– А то как же не довезти! – еще мощнее заулыбался он – Я зараз туда и еду. Давай, хлопчик, с той стороны уже дверь открылась. Полезай давай!
– Только мне платить нечем, у меня деньги украли. – Почти жалобно сказал я. Чисто жалобно не получилось.
– У меня, хлопче, тожить стибрили тугрики. Давно, правда. В армии ещё. Батько прислал на именины. С Полтавщины. А ночью из-под подушки кто-то тиснул деньжата. А как лихо зробив! Я чуткий, и то не проснулся… Давай, седай! Не деньги красют человека, а человек сам по себе прибавочная стоимость.
Под эту оглушительно умную фразу я запрыгнул в ПАЗик и через пятнадцать минут беспрерывных взлетов на холмы и контролируемых падений с них шофер остановил автобус и торжественно объявил: – Це вона и буде! Ока.
Поблагодарил я водителя, руку пожал и спросил:
– А вы чего сюда с Украины-то? Там же хорошо. Благодать.
– Где нас нет, там и хорошо. А так если, по правде, то за жинкой поехал. Она местная. К нам приезжала на практику из Горьковского института. Позвала меня сюды. Тут и поженились. Гарна, скажу, дивчина. Пять лет живем, а как один день. Хороша, зараза!
Он радостно шлёпнул обеими руками по рулю, мы еще раз попрощались, я пожелал ему, чтобы они с жинкой жили долго и в один день померли. И мы расстались. Он поехал быстро и красные фонари габаритные вскоре канули в темноту.
Я пошел на плеск воды и довольно быстро оказался на высоком склоне. Ока несла свои знаменитые воды где-то далеко внизу. В темноте спускаться туда я побоялся. Сел на край склона, похожего на обрыв, достал пряник, отломил от него немного и машинально сунул в рот. Ни о чем не думалось. Ничто не вспоминалось. Устал. И вот когда пряник уже почти рассосался, сбоку от меня послышался разговор двух мужчин. Голоса приближались, скрипела под четырьмя ботинками трава и вдруг из непроглядной темноты один из них сказал:
– Эй, орел! Ты чего тут завис? Пошли с нами.
Как они меня увидели с такого расстояния? Я вытянул руку и концов пальцев не разглядел.
– Да ничего. Я пока тут прилягу. Устал немного. Вы куревом не богаты, случайно? А то уши пухнут, честно говоря.
– Не богаты – сказал низкий бархатистый голос. – Тут богатых не бывает. Но папироски пока имеются.
Неожиданно прямо перед моим лицом появилась огромная ладонь. На ней лежали три папиросы. Я сгрёб их в кулак и стал вглядываться туда, откуда появилась здоровенная, как саперная лопатка, ладонь. Но никого так и не увидел.
– Ну ладно, – сказал голос тембром без бархата и погрубее. – Кури тут тогда. Спать лучше назад отойди. Там трава мягче и ветра нет. А мы пошли. Захочешь – утром спускайся. Нам люди всегда нужны.
И они, сбивая на спуске мелкие камешки и создавая движение песку, пропали внизу.
– В Москве при той же ситуации пришибли бы простой палкой, – подумал я без эмоций, закурил. Оказалось, дали мне «Север». Потом поплевал на окурок, затер его до мундштука туфлей. Потом в полусне нащупал позади портфель, уронил на него буйную свою головушку и перед тем как отключиться успел подумать о том, что с завтрашнего утра у меня больше не будет и этой жизни. Начнется какая-то другая. Совсем другая. Какая?
Но этот вопрос я задал себе уже в неровном, тревожном, прерывистом сне.
До утра ещё была целая вечность и шесть часов…
Глава шестая
Утро я сначала услышал, а увидел на три секунды позже, когда подпрыгнул и понял, что стою на траве. Разбудил меня шипящий и подвывающий треск тормозов чего-то большого, которое теоретически уже меня переехало, но практически остановилось в полуметре от ног. Потрясло меня то, что я не просто перешел из лежачего положения в стоячее. Вроде как подо мной из дряхлого матраца прорвались сквозь парусину все пружины сразу и катапультировали спящее моё тело. Я обалдел от того, что под мышкой у меня был зажат мой толстый от пряников, бумаг и бритвенного набора портфель. Если бы это происходило в армии, то оделся бы я, набросил бы берет свой голубой, навернул портянки и защёлкнул ремень не за сорок пять секунд, а за пять. И мог бы получить благодарность от сержанта.
Передо мной стоял огромный как три слона, поставленные друг на друга, трактор «Кировец», а сверху, с высоты второго этажа, как курица с насеста, спорхнул худой, похожий на колос овса сивый паренёк.
– Мать твою распратак, да в рот тебе компот!! – верещал во время полёта тракторист, а когда спланировал на твердь, сразу протянул руку и назвался: -Лёха Николин я. А ты чего тут раскудрявился? Тут махонькие машинки, вишь ты, катаются. На метр в землю тебя вдавит и не заметит. – Лёха сделал уважительное выражение тощего лица и показал его трактору.
– Я думал, что ты или помер, или пьяный в полную негодность, – Лёха мгновенно поменял выражение лица на умное и три раза, прислушиваясь к звуку, пнул колесо ногой в армейском ботинке. Колесо мягко зашумело внутри, а ботинок затрещал, но сохранил прежнее целое состояние. – А ты чего тут ночью делал? Да ещё один, без девахи? Только не говори, что от стада отстал на ночь глядя. Я вижу. Ты ж не турист. Ты кто вообще?
Я подумал, что если сейчас начну рассказывать всё с начала до текущего момента, то Лёха не осилит весь текст, поскольку явно торопится. Возможно, завтракать. Тогда он и половины исповеди не выдержит. В связи с этим предположением я в пять минут втиснул весь свой путь от редакции до ночевки на этом откосе, где он меня почти переехал, и стал ждать реакции. Но Лёха, уяснив, что я не турист, а тоже на работе, вообще не стал реагировать никак.
– Так ты хочешь вниз спуститься? – спросил он, продолжая аккуратно пинать все колеса.
– Ну да, хотелось бы искупаться сейчас и посмотреть, что там мужики делают. Вечером вчера двое туда спускались, дали мне закурить и с собой звали. Люди, говорят, нам нужны. А там что?
Лёха тщательно осмотрел свои ботинки и, прихрамывая от усердного избиения колес, пошел к ступенькам, ползущим к кабине.
– Там ватага, – он криво ухмыльнулся и поставил ботинок на нижнюю ступеньку. – Вроде как артель рыболовная. А так-то – никакой артели. На бумаге только. Там типа мастерских что-то такое. Лодки смолят. Моторы чинят от катеров, да от лодок. А, так красят же их ещё! И лодки, и моторы. Да и катера облезлые подкрашивают. А там кто ни попадя вкалывает. Беглые в основном. Кто от тюрьмы, кто от жены, от алиментов ховаются, другие просто приключений ищут на свою задницу. Скучно им дома. Но больше всех там бичей. Пацанов без паспорта, без хаты своей, без семьи и без родины.
Куда чего дели – и сами не помнят. Дует им какой-то дикий ветер в спину и гоняет по русским землям. Документов нет – не сиди долго на одном месте. Бегай, да тырься по глубинкам, где власть не ходит. Тогда поживешь на воле, сколько повезёт. И татары там, и корейцы, с Украины хлопчиков полно, молдаване есть. – Лёха протер зеркало рукавом рубахи со второй ступеньки и подтянулся на поручнях сразу до четвертой. – А тебе там чего делать? Про них писать? Так нечего писать. Кто ж напечатает, что у нас в СССР неучтенные, лишние для жизни людишки прозябают, жизнь свою морят? Не напечатают. То-то. Потому, что у нас в СССР всем всё уже дано по потребностям и обеспечено равенство, а к нему выдано каждому счастье социалистических преимуществ.
Я прикинул – смог бы я на одном дыхании протарахтеть целиком и без сбоев эту же речь и решил, что вряд ли. Лёха, видно, был тут краснобаем и считался, наверняка, умным.
– Это на курсах трактористов учат так складно говорить? – я закурил «бычок» своей глубоко заныканной сигареты и держал её за самый кончик, чтобы не искать потом бесплатную мазь от ожогов.
– Это в Томском политехе учат, – серое тощее его лицо озарилось на миг каким-то светлым воспоминанием. Из тех, которые любую минуту делают маленьким праздником души. – Я этот политех закончил два года назад. А мне распределение дали в Туркмению. На завод по ремонту передвижных электростанций. А мне батя сказал, что я последний придурок буду, если после Томского политехнического поеду в Туркмению. Ну, я и не поехал. Два года уже тут на тракторе плуг таскаю. Ещё год покручусь здесь, потом посмотрим. Батя обещал в Новосибирске помочь устроиться. В Академгородок. Через три года все в институте про меня совсем забудут. Точно говорю.
Он забрался, наконец, в кабину и зевнул.
– Не выспался ночью. Читал Библию. Ветхий завет. Мудрая книжка, скажу тебе. Зря у нас религию пригнули-придавили. В ней какая-то сила спрятана. Вот дочитаю, тогда её пойму, силу эту. А ты давай, лезь ко мне, поедем в Павлово. Позавтракаем. У тётки Наташки. Комнату у неё снимаю. А потом ты до вечера погуляй по городу. Тебе на ватаге бугор нужен. Старшой. Сам ватаг. Татарин там один. Музафаров . Он только после шести вечера приходит. А без него там с кем говорить по делу? Не с кем. Поехали.
Я отряхнул брюки от травы и пыли, закинул в левую дверь портфель, который плюхнулся на сиденье и скрылся с глаз моих в разбуженной пыли.
Запрыгнул в кабину, поставил изменившийся цветом портфель на колени. Пыль с него быстро ссыпалась на брюки, а сам я сидел, погрузившись на сантиметр в толстый как общая тетрадь слой серого, перетертого в порошок разными колесами, грязного грунта. Трактор дернулся как трусливый больной от укола толстой иглой. И мы поехали к тётке Наташке на завтрак.
– А что, посолиднее работы для инженера из Томска нет в Павлово? С высшим образованием плуг таскать – большая роскошь для этого образования.
Я разговаривал и попутно подпрыгивал на ухабах вместе с портфелем, и каждый такой прыжок извергал килограмма по три пыли с сиденья. Она оседала медленно и какие-то мгновения не видно было ни дороги, ни Лёхи. Сам он не подпрыгивал, потому, что как клещ намертво впился в огромный руль. Я только теперь понял, почему лицо у него серое. Умывался он, похоже, только после работы. А пока скакал по просёлочным дорогам целый день, мыться смысла не имелось никакого.
– Я сюда не вслепую приехал, – заорал Лёха громче мотора, – А у моего кореша из Томска тут сестра с мужем. Муж здесь небольшой начальник на заводе ПАЗ. Вот кореш-то им письмо написал, что меня надо куда-нибудь трудоустроить. Через две недели ответ пришел. Пусть, мол, едет. Ну, приехал я, диплом показал мужу Веркиному. Он предложил его спрятать, но запомнить куда спрятал. Не нужен тут диплом. Иди, мол, в райсельхозуправление к Никитину Иван Иванычу. Он тебя пошлёт на месячные курсы трактористов. Погоняешь три года «Кировец» по полям, землю полюбишь. В соцсоревновании всех победишь. Ты ж инженер! У тебя получится. А чё! Я тут не последний на пахоте. Сейчас вон целину подымаю за городом. Новые поля будут. Под ячмень и просо.
Внезапно пыль осела и мотор выключился. Я глянул сверху в сторону. Мы стояли возле деревянного, крашеного темно-синим цветом дома с палисадником, вокруг которого как заводные игрушки вразвалку, но шустро бродили куры, кланяясь без остановки всему, что можно было клюнуть. Это мы приехали к тётке Наташке завтракать.
Сама тётка как раз поливала лимоны, которых на каждом окне было по два. Лимоны в маленьких кадках стояли на столе, на тумбочках, на комоде и даже на полу. Кроме лимонов в комнате сразу, как только мы в неё вошли, полоснули по глазам пестрые, яркие, абстрактные вышивки какими-то необычными петлями. Они были толще и тоньше, уже и шире, длиннее и короче. И всё это составляло не рисунок, не орнамент или узор, а именно картину без сюжета, но с претензией на кубизм. Он уже был в моде. Всё, что в доме состояло из ткани, тётка Наташка расшила петлями. Подушки, салфетки, одеяла, занавески, хозяйственные полотенца и тёткин фартук были вышиты живописными квадратами, ромбами, кругами, треугольниками не сочетаемых цветов. Даже три иконы в красном углу были прикрыты с боков белыми полотнищами из блестящего белого плиса, расшитого нитками скромных, но всё же броских тонов. Такого я не видел больше нигде и никогда.
Сама тётка Наташка, пухлая краснощёкая, рыжая как лиса дама, которой, по внешнему виду судя, жутко не желалось выглядеть на свои сорок с хвостом. А хвост рос безжалостно быстро. Поэтому она была в блузке с серьёзным декольте. Блузка имела сумасшедший оранжевый цвет, и категорически противоречила узкой зеленой юбке с вышивками в неожиданных местах. Под глазами она нарисовала жуткие синие тени, похожие на фингалы после большой драки, а также покрыла надутые здоровьем губы перламутровой фиолетовой помадой. В целом она была похожа на клоунессу из безвылазно гастролирующего цирка шапито.
Какая-то идиотка, скорее всего подружка, насоветовала ей вот этот способ удержать сбегающую молодость. И сама, наверное, выглядела ещё страшнее. Но во всём остальном тётка Наташка никому не подражала и оказалась отличной собеседницей, прекрасным поваром и человеком с тонким чувством юмора. Я провел у неё замечательных два часа, наелся дня на три вперед и нахохотался от её добродушных и действительно смешных шуток так плотно, что на время даже забыл, что я не долгожданный гость, а человек без паспорта, по горло увязший в проблеме скитальческого бытия.
– Спасибочки за хлеб да соль, Наталья Викторовна! – Лёха полез в карман рубахи, достал три рубля, пришлепнул их к столу и поднялся, потянулся. -Сейчас бы прикорнуть часика на полтора, но не поймут на работе. Поехали мы.
– А ты что-о, тооже на тракто-ориста учишься? – фиолетовые теткины губы растянулись аж до красных щёк, когда она перевела взгляд с трёх рублей на меня. – Чтоо-то-о не поохо-оже.
– Стасик- корреспондент из Нижнего, из «Ленинской смены». Командирован на неделю по райцентрам со спец.заданиями. Хошь, он возьмет, да и про тебя напишет! – Леха захихикал, прикрыв рот ладошкой, и мне с чертенком в глазу подмигнул.
– Ехай, давай! – тетка Наташка невесело усмехнулась и развернула Лёху к двери передом, к себе задом. Подтолкнула его в спину и закашлялась. – Проо меня не напечатают. У нас в стране таких по-оганых жизней, как у меня была ишшо-о пять лет назад, не должноо быть, не бывает и нету! У нас все счастливы, живём все радостно-о и идем к светло-ому будущему, аж бегоом ноги лоомаем!
Вышли во двор. Ехать с Лёхой на поле мне не хотелось. Он это тоже понял и дал руку.
– Ну, давай. Вечером приходи. У нас заночуешь. Ты куда сейчас?
– Да не знаю. Пойду просто похожу, посмотрю.
Следом вышла тётка Наташка, остановилась на крыльце и от её клоунского наряда и двор, и утро стали смешными и яркими.
– Ты во-он поойди вниз по-о улице, раз время надоо убить, спустись доо ко-онца . Там поово-ороот направоо. Иди, гляди на правую стооро-ону. Увидишь красный до-ом из кирпича. Крыша синяя, забоор и палисадник ещё краснее доома. Во-от туда, в во-ороота по-остучи. Выйдет мужик лысый. Звать его Максим Михалыч. Поопро-осись к нему двоор и доом внутри по-осмоотреть. Скажи, коорреспондент ты. Пустит. Оон хо-орооший. А ты такоого нигде бо-ольше не увидишь. И но-очевать приходи, если не найдешь- где ещё.
Она развернулась и, крутнув молодецки бедрами, скрылась во тьме сеней.
– Она раньше пила по черному. – прошептал Лёха.– Начала после одной беды. То есть, с горя что ли. Она на молочном заводе работала. А там все приворовывают, молоко таскают, да продают подешевле. Ну и она туда же. Вырыли они с бабами дыру под забором подальше от окон. Ну и каждый вечер по фляге туда проталкивали. А там ждал механик заводской на «Иже» с люлькой. Ну, на пятой фляге их отловили сторожа. Наташку уволили и ещё одну.
А Павлово – деревня. С виду только – вроде городка. На работу её уже никто не берёт. Никуда. Наташка, значит, помыкалась с полгода, искала куда пристроиться. А потом где-то познакомилась с дурой одной. Померла она в том году. И та её пристрастила хлебать пойло разное. Муж Натахин, тёзка мой, смотрел на это, оттягивал её как мог, уговаривал бросить. Она вроде пообещает ему, что всё, конец. Потом по новой. Ну, он через полгода и уехал из Павлово. Куда – неизвестно. И с концами. А ей тогда 35 годков было-то всего.
Вот после Лёшкиного побега она совсем с башкой рассталась. Так наедалась самогоном, что в чужих дворах спала, до дому не доползала. У неё дом стал как притон. Мне тут местные рассказывали. Жрали с толпой доходяг эту пакость ведрами, песни орали, морды квасили друг другу и как-то сарай подожгли по беспамятству. Ну, приехали пожарные, милиция. На Наташку протокол написали. А через неделю к ней скорая помощь подогнали, милиционеры, наверное, да отвезли её в Нижний, в спецбольницу для алкашей. Месяц чего-то ей кололи и потом вшили «торпеду» в спину и сказали: капля в рот – ты сразу в гроб.