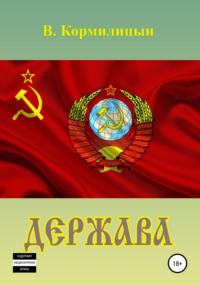Полная версия
Держава том 1
– А что там? – заинтересовались женщины.
Максим Акимович с безразличным видом занимался куриной ножкой.
«Бурбон! Солдафон! – рассердился его брат. – Делает вид, что неинтересно».
– Описан недавно произошедший случай, – ответил женщинам Георгий Акимович, подставляя лакею рюмку для бургундского. – Слишком холодное! – сделал замечание, отведав вина.
«Сейчас бы мадемуазель Камилла занудливо попеняла, что неэтично воспитывать слугу перед гостями», – спрятала улыбку Ирина Аркадьевна, с любовью наблюдая за своими мужчинами.
Сегодня детей посадили вместе с взрослыми и они, забыв нравоучения гувернантки, отдавали должное обеду, не забывая время от времени, пинать друг друга под столом ногами.
– Мам, а что он.., – жаловалась Лиза на Глеба.
– Глеб! Как тебе не стыдно, – делала замечание сыну Ирина Аркадьевна, и гладила по голове девочку.
– Георгий! Ну ты скажешь, в самом деле, что написано в газетах? – возмутилась, наконец, его жена.
Ехидно глянув на брата, допив до дна рюмку и вытерев губы салфеткой, менторским профессорским тоном произнёс:
– Фельетон озаглавлен «Не всегда тащи из воды то, что там плавает» и повествует нам, как известный гипнотизёр Осип Фельдман, наслаждаясь природой на берегу моря, около Сестрорецка, вдруг увидел, что с мостков упал в воду старик в длинном пальто, и кинулся спасать его.., и знаете, кого вытащил из воды?..
– Какого-нибудь пьяного профессора Санкт-Петербургского университета, – облокотился на спинку стула Максим Акимович.
– Нет! Вашего сподвижника и царского наставника, обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева, – многозначительно оглядел общество.
– Должна быть и от жидов какая-то польза, – подвёл итог сказанному Рубанов-старший.
– Что значит от жидов? – вскипел праведным гневом Георгий Акимович, холодными серыми глазами разглядывая брата. – И пользы России они принесли не мало… Развивают промышленность и экономику, а сколько их в науке и искусстве…
– А сколько их в террористах и врагах государства?! – невозмутимо глянул на брата добрыми, голубыми глазами Максим Акимович.
Ему не хотелось сегодня споров. Как всё прекрасно прошло в их первую встречу после Ливадии.
Но брат был другого мнения.
– Кого ты имеешь в виду? Договаривай, коли уж начал.
– Да хотя бы Веру Засулич, – вздохнул Максим Акимович: «Не дают сегодня спокойно пообедать».
– Так суд присяжных под председательством Анатолия Фёдоровича Кони вынес вердикт: «невиновна» и полицейская карета уехала пустой, – радостно потёр холёные белые руки профессор, и сам налил в рюмку водки.
– Потому так произошло, что общество наше ещё не готово к введению института присяжных заседателей, – начал заводиться Максим Акимович, чем весьма осчастливил именинника. – Достоевский недаром в «Дневнике писателя» оспаривает многие вердикты присяжных, как незрелые! Им дали право судить, а не оправдывать явных убийц, так как доброта к преступнику есть жестокость к его жертве…
– Да какая же Засулич убийца? Она борец за справедливость… Наказала зарвавшегося от власти петербургского градоначальника Трепова, по приказу которого в тюрьме высекли студента.
– Да этот студент, перепив пива, плясал и матерился на паперти Казанского собора… На что нарывался, то и получил, – злился Максим Акимович. – Что же будет, ежели все начнут в церквах плясать и материться? Должно же быть что-то святое у людей? И печально, когда общество начинает восторгаться террором. Даже не общество в целом, а узкая группа, но в руках этой группы печать – газеты и журналы, и она делает настроение… Я уверен, будь присяжными крестьяне, приговор был бы иной. Ведь писали не о том, что она выстрелила в спину старому человеку, к тому же исполнявшему свои служебные обязанности, а делали акцент на толщине розог, как стонал бедный разнесчастный студент, забывая, за что его наказали. Видя такое потворство, всего через два года, в феврале восьмидесятого, устроили покушение на самого императора Александра Второго, который и проводил реформы. К счастью, государь в этот раз не пострадал, а адская машина, заложенная под полом в столовой, унесла жизни двенадцати солдат охраны. Это было шестое покушение, а через год эти мерзавцы добились своего… Наш государь погиб! И погиб перед тем.., как хотел дать стране конституцию. Вот после этого покушения Победоносцев и произнёс в Государственном Совете знаменитую свою речь, в коей подверг уничтожающей критике конституционный проект и положил конец либеральным реформам Александра.
Наученные горьким опытом жёны, вместе со своими чадами, ушли в гостиную.
– Люба, как мне надоели эти политические разговоры, – жаловалась подруге Ирина Аркадьевна, – ну почему бы им не поговорить о любви, о цветах, о детях, наконец…
– … Как только подобные тебе либералы и нигилисты не называют Победоносцева: и Мефистофелем, и вампиром, выпившим всю кровь из либеральных реформ…
– Это самое правильное название, – с довольным видом подтвердил Георгий Акимович, – а ещё – «Кощеем православия», – хохотнул он, плеснув в бокал вина. Разговор очень занимал его. – К тому же он ярый антисемит и автор позорной «черты осёдлости».
– Да какая же это черта, коли, сам говоришь, и в науке, и в искусстве полно евреев… Согласно закону, повсеместно имеют право проживать купцы первой гильдии, лица с высшим образованием и ремесленники… Так что у них богатый выбор, чтоб обойти черту. Ремесленником каждый может стать. Вот и лезут всюду правдами и неправдами как блохи.
– Потому что умная нация! Среди моих друзей профессоров, сколько евреев.
– Вот эти-то жидомассоны и портят студенческую молодёжь… Неужто они станут внушать ей патриотизм и любовь к родине? Отнюдь! По их понятиям, каждый индивид является гражданином мира… У самих-то родины нет! И мы не люди для них, а индивиды…
________________________________________________
Славно пахло морозом.
После уроков в гимназии, закинув ранец за спину, Аким неспешно брёл домой.
«Через несколько дней Рождество, – радовался он, останавливаясь у замёрзшего окна часового магазина и с интересом разглядывая сквозь морозные узоры, выставленные на обозрение часы. Обнаружив рядом с дверью магазина рыхловатый снежный сугроб, набросанный утром дворником, залез на него и с удовольствием потоптался.
Рядом пронеслись сани, швырнув в Акима комья снега.
«Хорошо!» – отряхивался он, спрыгнув со своего снежного пьедестала.
Всё радовало его в этот ясный морозный день. Люди шли румяные, улыбающиеся.
Заметив на дороге лихо выбрасывающего ноги рысака, с выпучившим глаза кучером за его серым крупом, он благоразумно отошёл к стене дома, и с удовольствием поглазел, как обсыпанный грязным снегом чиновник, пыхая паром изо рта и ноздрей поболе, чем давешний рысак, потрясал кулаком и грозился подать жалобу полицмейстеру.
«Чего злится? Вот делов-то, отряхнулся и всё, – перебежал дорогу и зашёл обогреться в лавку с вывеской «Певчие птицы». – Надо Глеба сюда привести», – разглядывал многочисленные клетки со скворцами, синичками, канарейками и соловьями.
– Хто жалат послухать взаправдашнего соловья с осьмнадцатью коленцами, вали в эфту комнату, – приглашал молодой, весь в угрях приказчик с маслеными на пробор волосами.
«Вчера из деревни, наверное», – сунув ему копейку, пошёл «послухать» соловья.
– Силён, бродяга! – обсуждали птаху двое фабричных. – У нас в трактире не хужей разливается, паразит.
– Особливо в день получки, – со смехом поддержал его другой.
После птичьего магазина Аким на минутку заглянул в «колониальный» братьев Сапожниковых, и не ушёл оттуда, пока не обследовал прилавки с жёлтыми апельсинами и лимонами, зелёными яблоками и грушами, не прочёл красочные этикетки на банках с вареньями, не съел купленный кусок пастилы и не выпил фруктового лимонаду.
Затем надолго остановился у витрины охотничьего магазина. Вдосталь налюбовавшись ружьями, подставил подножку запоздавшей гимназистке из Мариинки, за что был обруган горничной, тащившей за девчонкой связку книг. Показал её спине язык, за что выслушал замечание от дамы с влажной у губ вуалью. Показал язык и её спине, за что получил замечание от толстого чиновника и подумал, показывая язык его спине, что так наслаждаться можно до самой темноты, но уже давно пора домой.
«Как маленький стал, хуже Глеба себя веду», – горестно разоблачал неблаговидное своё поведение, неожиданно врезавшись головой в живот мужика, правившего громадным ломовым жеребцом.
Этот не обругал, а ласково чмокнув губами то ли жеребцу, то ли ему, произнёс:
– Задумались, барчук? Ничаво-о! Быва-а-т! – осторожно обошёл его и щёлкнул по крупу могучего тяжеловоза вожжами.
Тот, напрягшись и позванивая медным набором на чёрной сбруе, тащил огромные сани, доверху наполненные сосновыми и берёзовыми дровами.
Стрелой влетев в дом не с парадного, а чёрного входа, Аким забежал в комнату прислуги, с размаху швырнул ранец на лавку в углу и что есть мочи заорал:
– Ма-а-а-р-фа-а!
Услышав в ответ тонкое дребезжанье:
– Ка-р-ра-у-ул! Люди добры-ы-е-е! Убивают на старости годо-о-о-в…
В мутном, обмёрзшем стекле окошка отразился трясущийся силуэт старичка-лакея, сидевшего на лавке с ранцем в руках.
Скрипнув дверью за спиной Акима, вбежала и зажгла свет дородная пожилая женщина в цветастом фартуке.
– Ох-ты, Господи! Что за шум-то, батюшки. А ты, старый, никак учиться собрался? – глянула на трясущегося деда. – Опять спал на лавке, поди, – забрала у него ранец и положила на стол, предварительно обтерев фартуком. – Сапоги-то все мокрые, барин, и шинелька в снегу. Снимай, сейчас отряхнём. Старый, опорки2 мои барчуку достань из-под лавки. Да чего ты всё губой трясёшь и головой дёргаешь? Приснилось что ль чего? Пошли со мной на кухню, – взяла Акима за руку.
На кухне уютно пел самовар, тикали ходики и рядом с печкой спал толстый, под стать женщине, котяра.
– Садись, сейчас чаем с вареньем напою, – обтёрла фартуком лавку.
Вечером, выслушав нравоучения сначала гувернантки, а затем матушки, Аким учил уроки, размышляя попутно, что в будущем, неплохо бы стать ямщиком… Катай себе людей в пролётке и латынь зубрить не надо. Покрикивай на коней: «Э-эх, мать-перема-а-а-ть, залётны-я-я! Тудыть вашу в оглоблю, в копыто ма-а-ть… Здорово!» – аккуратно записал услышанное днём выражение – может, сгодится когда.
________________________________
Император в этот вечер тоже засиделся за бумагами.
«Вот же бюрократы, натащили сколько, ничего без батюшки-царя не могут», – зевая, читал документ и, по-детски почесав ручкой затылок или нос, писал на полях резолюцию, чтоб видели, сатрапы, царскую работу. На рапорте полицмейстера о злоупотреблениях чиновников пометил: «В семье не без урода». На сообщении министерства финансов о сумме с продаж водки: «Однако». О забастовке на фабриках: «Милые времена».
Почёсывая ухо, Николай думал, чтобы такое-этакое написать, дабы переплюнуть кузена Вилли, который при встрече хвалился ему своими, как он считал, ужасно остроумными резюме: «Тухлая рыба» встречалась наиболее часто, не уступали ей по интеллекту замечания: «Чепуха», «Чепуха собачья», «Мошенники», «Грязные мошенники», – о французах. «Типичный восточный ленивый лжец», – как бы, не обо мне. «Вероломен, как француз».
Любимая сидела в это время в соседней комнате Аничкова дворца, где они жили после свадьбы, и упорно учила русский язык.
Услышав, как его жена чего-то уронила на пол, он отодвинул «собачью чепуху» на край стола и направился в её комнату.
– Аликс! – обратился к ней, доставая из портсигара папиросу и поправляя ремень на простой холщовой рубахе народного покроя. – А не одеть ли нам придворных в костюмы прапрадеда моего Алексея Михайловича… Только не говори сразу – чепуха собачья.
Ники! – задумалась она над предложением, с удовольствием разглядывая заправленные в сапоги мешковатые штаны супруга. – Прекрасно выглядишь, Ники. Как русский мужик.
– И ты тоже, любовь моя. Тебе так идёт этот русский сарафан, – сделал комплемент, выпустив душистый клуб дыма.
– Константин Петрович посоветовал переделать столовую, вернее, трапезную, под старину, – выдвинула царица встречное предложение. В такой обстановке и русский язык будет легче даваться.
– А что? – загасил в пепельнице папиросу Николай. Это же превосходно! – в волнении заходил по комнате, растирая ладонями виски. – А давай начнём с опочивальни? Представляешь, родная, расписанные русскими узорами стены, стулья из кремля выпишем и кровать под балдахином. В такой обстановке точно сын родится…
– Тогда, конечно, давай. А что такое опочивальня, Ники?
– Спа-а-льна-а-я, – растягивая слово, подошёл к жене, прижал к себе и поцеловал в губы.
Снежным вечером, перед самым Сочельником, Максим Акимович повёз семью кататься на санях и, уже намереваясь ехать домой, чуть не столкнулся с летевшими навстречу небольшими санями.
Только собрался обругать нерадивого кучера, как слова застряли в горле… Кучером был сам государь, в шубе на бобрах и высокой боярской шапке. Позади него, прикрыв ноги медвежьей полостью, барыней развалилась Александра Фёдоровна в собольей шубке и белой меховой шапке.
От самодержцев за версту веяло семнадцатым веком.
«Сочельник. Завтра Рождество. Вот славно-то! – Аким проснулся пораньше. – Вакации3. В гимназию идти не надо. А в соседней комнате спит брат. Целую неделю будем вместе». – Вытащив из-под кровати заранее припасённый барабан, прокрался на цыпочках в спальную Глеба и, набрав как можно больше воздуха в лёгкие, простуженным быком заревел: «Р-р-рота-а! По-о-дъё-ё-м!» – и, что есть дури, стал колошматить в барабан.
Проснувшийся, но не раскрывший глаза Глеб шарил рукой по полу.
«Сапог ищет», – выбежал из комнаты Аким и увидел у стены трясущегося, как заячий хвост, старичка-лакея с новым гимназическим мундиром в руках, а неподалёку от него державшуюся за сердце мадемуазель Камиллу.
Выскочивший с сапогом в руке Глеб сразу простил брату утреннюю побудку, с удовольствием разглядывая потерпевших.
– В гимназию собрались, дедушка, – ласково поинтересовался он, пожимая руку Акиму.
– Мсье Руба-а-анов! – наконец пришла в себя гувернантка. – Вы становитесь таким же несносным, как и ваш кадетский братец. Казалось бы, что вы должны влиять на него в положительную сторону. Мадам Светозарская…
Аким вежливо расшаркался с нравоучительницей, поклонился старичку-лакею, приняв из его дрожащих рук форму, и забросив барабан за спину, гордо удалился к себе, услышав вслед:
– Папа′ велели вам собираться, поедете с ним на рынок…
Умывшись, одевшись и на скорую руку попив чаю, братья побежали к каретному сараю наблюдать величественную картину запряжки в сани трёх вороных рысаков.
Молодой, под потолок, но с жидкой бородёнкой конюх, в красной рубахе и жилетке, с озорством притопывая ногами в валенках, открывал створу крашеных в коричневый цвет ворот. Другую створу, кряхтя и добродушно матюжась, открывал закутанный в тулуп и шапку до глаз, сторож.
– Пахомыч, ходчей отворяй! – хрипато советовал сторожу похмельный дворник в когда-то белом фартуке на измызганном коротком пальто.
– Да иди ты, Власыч, – вежливо посылал приятеля такой же похмельный сторож. – А то как пальну из берданы.
– Испужа-а-а-л! Метлой-то шваркну, куды пердана полетит, куды ты.
– Дядя Влас, отойдь, зашибу, – выкатил из сарая сани конюх.
– Ай да здоров! – с опаской попятился Влас Власыч. – Ванятка могё-ёт. Враз зашибёт, чертяка.
Ребята, отойдя немного в сторону, наслаждались церемонией, разглядывая висевшие в полумраке сарая на железных крюках хомуты и сбрую из тонких ремешков с серебряным набором, которую, встряхнув, взял Иван и понёс в конюшню.
Мальчишки побежали за ним и расположились по сторонам раскрытых ворот, из которых исходил тёплый лошадиный запах.
Вот заржал жеребец и затопал по деревянному настилу.
– Посторонись! – вывел его на улицу Иван, и любовно оглаживая и похлопывая по крупу, привязал ремнём к кольцу, привёрнутому к кирпичной стене сарая. – Близко не подходи, – предупредил ребят, направляясь за вторым рысаком.
Последним вывел постоянно фыркавшего и танцующего коренника.
– Тпр-у-у! Дьявол! – любовно оправлял гриву конюх. – Не балу-уй! – железной рукой стал запрягать коней.
В эту минуту из людской вышел кучер в треухе с тёмно-зелёным бархатным верхом, в чёрных, под стать коням, валенкам и бархатных зелёных шароварах.
– Хоро-о-о-ш! Хорош собака! – хвалили его собутыльники, опираясь один на метлу, другой на бердану.
– На коней не дышите, чуды! – ухмыльнулся кучер, выставляя грудь в шёлковой зелёной рубахе.
– Пяту-у-х! Ну, чистый пятух, – с завистью плевались мужики, пока тот хозяйским глазом окидывал расчёсанные лошадиные хвосты и гривы.
– Поспешай! – подстегнул конюха, который опрометью выбежал из людской, таща в руках целый тюк одежды, и начал облачать своего начальника в широченный и толстый зелёный ватный кафтан, постепенно превращая худощавого кучера в огромного, под стать себе, тяжеловеса.
Застегнув сбоку круглые чёрные пуговки, принялся обматывать его длиннющим белым кушаком.
– Как ребятёнок в зыбке, – сделали однозначный вывод друзья-собутыльники.
– Пошли отселева, пока конями не стоптал, – миролюбиво посоветовал им кучер, усаживаясь в узкий передок и с помощью Ванятки вставляя ноги в ременные стремена и оправляя полы кафтана.
– Тп-р-р-у-у! Черти! – ласково увещевал коней.
Ребята, забыв всё на свете, любовались кучером и упряжкой.
Рысаки плясали, привязанные длинным ремнём к кольцу.
Минуту стояла торжественная тишина, пока кучер, сняв шапку, истово крестился. Затем, надев белые рукавицы и поелозив, ища удобства, задом, он спросил:
– Ну что, Ванятка, всё готово?
– Усё! Архип Ляксандрыч.
– Ну, тады пущай! – велел кучер, натягивая вожжи.
Иван отстегнул ремень от удил и жеребцы резко рванули вперёд, храпя, дико кося глазами и пуская клубы пара из ноздрей.
– Чисто звери! – разбегались в стороны работники метлы и берданы, а ребята со страхом прижались к стене.
Но сдерживаемые опытной рукой жеребцы перешли на лёгкий танцующий шаг и, проехав под аркой, вынесли сани к парадному подъезду.
Догоняя их, запрыгнул на полозья Иван. Следом бежали мальчишки.
Одетый в новенький, пахнущий овчиной тулуп, братьев уже ожидал отец.
Ребята просто рты открыли от такого его вида.
Тот, не обращая на них внимания, поочерёдно оглядел коней, белую сетку, прикрывавшую крупы и хвосты, гладко расчёсанные гривы, медвежью полость на санях, кучера, Ивана и, наконец, своих детей.
–Что-то больно чисто оделись, – сделал им замечание.
Мальчишки, ничего не поняв, переглянулись и уставились на появившуюся из дверей мать. Следом за ней плёлся удивлённый денщик.
– Слушайте папу, – не совсем уверенно произнесла она, – хотя он сегодня со странностями, – крестила отправляющийся экипаж, слыша издали голос мужа: «Прощевайте, матушка-боярыня…».
Как знаток и бывший приказчик, по рынку их водил денщик, прибывший вмечте с Иваном на других санях, предназначенных для поездок на базар кухарки, а иногда и самого повара.
– Куды, куды со своими салазками прёшь, дура, – орал он на укутанную почище кучера, в ватник и шаль, бабу с мешком за плечами. – Нос платком закрывай, а глаза-то зачем?! – учил тётку уму-разуму Антип, расправляя короткие свои усики и раздумывая, чего это вдруг генерал на базар попёрся и чего ему тута надо.
А барин с удовольствием прислушивался к людскому говору, стараясь запомнить понравившиеся слова.
– Чистое светопреставление ноне! – ответила денщику баба, с трудом сдвинув санки.
– Морозит-то как нынче! – обстукивал себя руками и приплясывал продавец рябчиков. – Господа-а! Покупай птицу-у. Тонкий скус, упитаны как молочные поросята, а во рту таю-ю-т.
– Разбира-а-ай рябцов и тетёрок, из самой Сибири-и, – горланил рядом с ним другой продавец. – Ах ты, чёрт, упырь окаянный, – схватил за плечо воришку, но тот ловко вывернулся, попутно куснув продавца за палец. – Пущай разговеется, аспид, добродушно ворчал мужик, но руку-то грызть зачем.
Зашли в просторную лавку. Здесь продавали свиней.
– Покупай на заливное молошничко-о-в, – предлагали покупателям двое бедовых приказчиков в вылинявших лисьих полушубках.
После пошли по рядам, слыша со всех сторон:
– Покупай индеек, уток, кур, гусей…
Снег под ногами был затоптан и грязен. Чистым ковром блестел он лишь на крышах лавок, сверкая под лучами яркого зимнего солнца.
– Заходи в лабаз, покупай морошку и квас, – тонким фальцетом вопил хозяин овощной лавки, изо всех сил стремясь переорать горластых продавцов птицы.
Миновали лавку с белыми сахарными головками и наведались к продавцу шуб – аристократу рыночной торговли.
Торговался с ним Антип, стремясь подешевле купить понравившуюся
Рубанову шубу на хорях. Максим Акимович стоял рядом и шевелил губами, запоминая народные выражения.
Днём поспали и поздним вечером пошли ко всенощной. Добирались пешком.
– Максим Акимович, как ты себя чувствуешь? Голова не беспокоит, – задавала мужу наводящие вопросы Ирина Аркадьевна, держа за руку детей.
За ними толпой плелись: денщик, повар, швейцар и замыкал шествие старичок-лакей.
Народу в церкви – не протолкнуться.
Празднично одетый городской люд крестился на иконы и ставил свечи.
«Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума», – затянул хор, и в душу стоявших рядом аристократов и простонародья одинаково хлынула любовь и радость.
На следующий день у Аничкова дворца было тесно от карет на полозьях и саней. Высший свет пришёл поздравить своего императора.
Приёмная дворца сверкала от орденов, эполет и бриллиантов.
Вот сюда-то в своей боярской шубе на хорях и запёрся Максим Рубанов. Под расстегнутой шубой поражённое общество не увидело генеральского мундира, а скрывая усмешки, и многозначительно глядя друг на друга: «Совсем, мол, сбрендил, сердешный», – заметило шёлковую розовую рубаху, подпоясанную пояском с кистями и заправленные в хромовые сапоги лиловые бархатные штаны.
Каково же было их удивление, а точнее, изумление, когда император с супругой, в первую очередь, раздвинув министров, подошли к какому-то там разнесчастному генералишке, и поклонились ему в ответ на старинный русский поклон, с подмахиванием у колена рукой.
«Как он ловко поклонился государю с государыней, сбросив на пол свою шубу. Вот молодец! Догадался. Праздник-то народный», – тут же изменилось общественное мнение.
Товарищ4 министра внутренних дел Сипягин, вызвав в кабинет своего агента, купленного с потрохами камер-юнкера, всё у него расспросил, наорав при этом, почему не доложил, что император переделывает столовую и спальную под семнадцатый век.
«Ну, Рубанов! – думал он. – Всех перехитрил. Вот бы мне такого информатора… Но генерал богат, к тому же числился в приятелях у покойного государя», – велел вызвать к себе чиновника для поручений и приказал тому хоть из-под земли достать мастеров и отделать свой кабинет и столовую под боярские хоромы, а ему купить настоящую боярскую шубу с длинными рукавами и высокую боярскую шапку.
Год подходил к своему завершению.
Балов в Зимнем не давали – траур.
В последний день года, к зависти даже великих князей, не говоря уж об остальных сановниках, царь удостоил Рубанова ужином в тесной семейной обстановке.
Перед пылающим камином сидели втроём за небольшим столом.
Царица была одета в сарафан, а государь с Рубановым в шёлковые рубахи и бархатные штаны.
Пили старинный дедовский мёд из деревянных жбанчиков и беседовали.
– Не тот нонче мёд делают… Не тот! – отхлёбывал напиток Максим Акимович, радуясь в душе, что случайно прочёл в календаре статейку о старинном русском напитке.– В древности у наших пращуров был ставленый мёд… Смешивали две части мёда с соком ягод. Обычно брусники, малины или вишни, и ставили бродить, – увлёкся рассказом, видя, как внимательно слушают его государь с государыней. – Затем несколько раз переливали, и в засмоленных бочках зарывали в землю на пятнадцать, двадцать лет. Это самое меньшее. Когда ваш батюшка венчался на царство, – перекрестился Рубанов, – гостей угощали трёхсотлетним мёдом. Больше такого не осталось… Я пробовал, – похвалился он.
Обсудили вкус мёда, и слово взял чуть захмелевший император:
– Слава Богу, самое страшное, чего я боялся смолоду – позади, – рассуждал Николай. – Я перенёс смерть папа и восхождение на престол… Зато в этом году судьба подарила мне жену, – нежно улыбнулся Александре Фёдоровне. – О таком счастье я не смел даже мечтать.
Рубанов стал нарасхват.
После государя его с женой пригласил Дмитрий Сергеевич Сипягин, которого близко свёл с Максимом Акимовичем генерал-лейтенант Черевин.