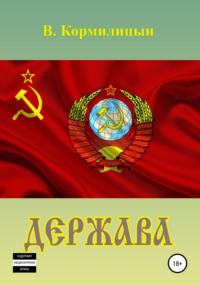Полная версия
Держава том 1

Огромный барский дом гордо стоял неподалёку от склона горы, плавно
опускавшейся к Волге.
У реки, в небольшой, местами обвалившейся каменной беседке, сидели два мальчика. На коленях одного из них, смуглолицего и черноволосого, лежал томик Батюшкова. Другой колотил палкой по воде, и с завистью поглядывал на курносого рыжего деревенского паренька в просмолённой лодке, который, то гордо хватался за вёсла, то, неумело скрывая испуг, вычерпывал из своего «крейсера» холодную осеннюю воду.
– Акимка, – обратился к черноволосому мальчику его брат, запустив свою палку, наподобие копья, в сторону терпящего бедствие моряка, – а вон за нами гуверняха идёт.
Насмешливые голубые глаза его окинули чуть полноватую фигуру брата и остановились на смуглом мечтательном лице.
Со вздохом захлопнув книгу, тот глянул в сторону лестницы, с кое-где выщербленными ступенями, на спускающуюся молодую женщину с зонтом над головой, и высунул руку из беседки ладонью вверх.
– Кажется, дождь пошёл, – произнёс он, любуясь жёлтой листвой деревьев, покрывающих склон горы от реки и до самой вершины.
– Господа! Маменька зовёт! – неожиданно сильным для такой худой особы голосом закричала гувернантка по-французски, ленясь спускаться до самой беседки.
Черноволосый с готовностью поднялся с каменной скамьи, уронив небольшую подушечку, на которой до этого сидел.
Брат его даже ухом не повёл, заинтересованно наблюдая за гибнущим матросом, с остервенением гребущим к берегу, и прикидывая, успеет ли тот причалить, или вода зальёт деревянную посудину.
– Маменька зовё-ё-т! – вновь завопила женщина, поскользнувшись на ступеньках, и со страхом ухватившись за мокрые металлические перила. Зонт её весело закувыркался по лестнице.
– Чего-о? – дурачась, приложил к уху ладонь светловолосый, с сожалением отвернувшись от удачно причалившего сопливого капитана.
– Глеб, хватит чудить! – одёрнул его брат, выходя из беседки и намереваясь поднять докатившийся до самой воды зонт.
– Чур, я, – помчался вниз по лестнице, пнув по пути упавшую подушку, но разломать зонт не успел, так как Аким первым подхватил его.
–Давай понесу, – безнадёжно предложил свои услуги Глеб, с уверенностью догадываясь, что зонта ему не видать.
– Дитё! – подражая няне, снисходительно произнёс Аким, придерживая под мышкой книгу, и отдуваясь, после крутого подьёма.
– Ой, Госпидя! – тоже копируя няню, взмахнул руками Глеб. – Нашёлся взрослый. Всего-то на два года старше. Зато я в свои десять лет, ростом почти с тебя, – показав язык для усиления аргументации, помчался к дому по выложенной камнем дорожке между желтеющих стриженой травой газонов с кругами вскопанных клумб.
Покачав головой, Аким не спеша побрёл к дому, зачем-то подмигнув стоявшему посреди пустого уже цветника, под огромной корявой акацией, бронзовому конногвардейцу, и поднявшись по каменным ступеням широкого крыльца, с трудом открыл солидную дубовую дверь с истёртой старинной медной ручкой.
Пожилой швейцар насмешливо взирал на него, перевесившись с перил лестницы, ведущей на второй этаж.
Переодевшись и умывшись, мальчики чинно вошли в большую залу, служившую гостиной, где на мягком просторном диване расположилась их матушка, курившая пахучую папиросу в длинном мундштуке. Её аккуратно и со вкусом уложенная причёска из тёмных роскошных волос, была перехвачена ниткой жемчуга. Карие глаза с любовью смотрели на сыновей, а рука с папиросой чуть дрогнула в сторону кресел с отлогими мягкими спинками, предлагая садиться.
– Как погуляли? – нежным, с чуть заметной хрипотцой, голосом поинтересовалась у ребят, лаская взглядом то одного, то другого мальчика. – А я всё утро делала прощальные визиты соседям, спасибо до дождя успела, – не слушая ответ, произнесла она, – правда, всего-то двух своих подруг и навестила, – рассеянно улыбнулась, затушив папиросу в пепельнице. – Как себя чувствуете? – легко поднявшись с дивана, поочерёдно потрогала их лбы. – Слава Богу, выздоровели. Доктор говорит, что всё нормально. А то ведь занятия пропускаете и в кадетском корпусе, – глянула в сторону светловолосого, – и в гимназии, – погладила по голове темноволосого сына. – Завтра едем в церковь, а послезавтра – в Петербург, – радостно произнесла женщина, чуть не захлопав в ладоши, – а то от скуки умрёшь в этой Рубановке. Идите в столовую и скажите, что скоро буду, – отпустила детей.
Отдохнув после обеда, братья занимались с гувернанткой сначала французским, а затем, на французском же языке, мадемуазель Камилла, звучным своим голосом, обучала барчуков светским приличиям:
– Вот, господа, свод законов светского человека, – потрясла она толстенным фолиантом в жёстком переплёте. – Этот труд Клеопатра Светозарская, – торжественно произнесла мадемуазель Камилла имя и фамилию своего кумира, – посвятила юношеству и развитию в молодых людях благовоспитанности, светского этикета и вежливости. И не стоит брать пример с личностей, получивших, благодаря романисту Тургеневу, кличку нигилистов. По их понятиям, быть деликатным и вежливым в отношении ближнего, значит соблюдать китайчские церемонии, – подняла свой голос до верхних пределов, строго глядя на светловолосого отрока, с упоением ковыряющего в носу. – Месье! – патетически воскликнула она по-русски. – Нынче мы, к горю нашему, видим между молодыми людьми таких, – указала пальцем на Глеба, – манеры коих до того грубы, что производят отвращение…
– А у мадам Клёпы Светозарской не написано, что показывать пальцем неэтично? – насмешливо глянул на гувернантку Глеб.
Оскорбившись то ли за своего кумира, то ли за себя лично, мадемуазель Камилла громко захлопнула книгу и, к радости младшего из братьев, вышла из комнаты, пушечно бахнув дверью.
– Дитё-ё-ё! – всплеснул руками старший, тоже, однако, не сильно расстроившись из-за ухода гувернантки.
После занятий Глеб помчался в конюшню, помогать конюху чистить лошадей, а Аким пошёл гулять по парку, раскинувшемуся за домом.
«Отец рассказывал, что когда-то, в старые времена, в саду было полно акаций. Теперь-то осталась только одна, у памятника конногвардейцу», – не спеша шёл по широкой, очищенной от жёлтых листьев тополиной аллее. – Как славно пахнет прелый лист, – свернул с аллеи на узкую, поросшую высохшей травой тропинку. – И слабый запах печного дыма, вперемешку с запахом скошенного поля и реки, – залюбовался овалом беседки на шести круглых колоннах, стоявшей на берегу заросшего ряской небольшого пруда. – В точь такая же беседка, с двумя дамами в старинных кринолинах, изображена на гравюре в матушкиной комнате», – вспомнил он, усаживаясь на холодный камень скамьи.
Вечерело. Шумели кроны деревьев. Шарахаясь из стороны в сторону, пролетела летучая мышь, всплеснулась вода в пруду.
«Может водяной или русалка? – стало жутко и сладко от этой мысли. – Ну конечно, русалка… А может это карамзиновская Лиза, которая бросилась в пруд от несчастной любви к Эрасту? Как там писали светские остряки: «Здесь в воду бросилась Эрастова невеста, топитесь девушки, в пруду довольно места…» – внутренне усмехнулся Аким.
Откуда-то издалека, с затихшей реки, донеслись голоса. На лугу, за парком, блеснул огонёк. Кто-то жёг костёр. Озноб пробежал по спине, и Аким зябко передёрнул плечами, поднимаясь с холодного камня.
Медленно, спотыкаясь о невидимые кочки, побрёл к обрыву, чтобы полюбоваться перед сном широким простором реки. Другой берег скрывался во мгле. Почти совсем стемнело и Аким, стоя на краю обрыва, представил себя птицей, парящей над спящим миром, над землёй, и сердце его замерло от счастья высоты и бездонности вселенной.
Он вздрогнул, услышав голос мадам Камиллы, зовущей его, и опустился из горних высей на бренную землю.
«Матушка, наверное, беспокоится», – заволновался Аким, выходя на тропинку, ведущую к усадьбе.
Выслушав по пути упрёки гувернантки, и извинившись дома перед матушкой, он расположился в мягком «вольтеровском» кресле и наслаждался теплом из камина и звуками вальса, что, сидя при двух свечах за роялем, наигрывала матушка, тоскуя о чём-то своём, далёком и непонятном.
В Петербург не хотелось.
В хаос города. В суету общения. В нудность учёбы. В однообразие будней.
Как мило в Рубановке.
С её рекой, с её парком, с её лугом и лесом, с её уютным домом, с книгами, со сказками няни, с роялем матушки, и даже с шалостями братца, что кувыркается на ковре с двумя весёлыми борзыми.
«Как хорошо!» – потянулся он в кресле, мечтательно глядя в огонь камина.
А вечером, отужинав, прощался с домом, бродя со свечой по анфиладам комнат и разглядывая гравюры на стенах, иконы в золотых ризах по углам, тяжёлые дедовские комоды и лёгкие, покрытые китайским чёрным лаком этажерки, старинные, с деревянными выгнутыми спинками, жёсткие кожаные диваны, и вдыхал тягучий и пряный запах старины в одних комнатах, и мнящийся запах духов, пудры, веселья и музыки – в других.
Возвращаясь в спальную, до смерти напугал спящего на ларе, у двери в подвал, старичка-лакея.
«Как бы брата не напугать», – тихо вошёл в комнату, задув свечу, Аким. И прежде чем уснуть, долго, с замиранием сердца, вслушивался в громкую тишину сонного дома.
Вот где-то скрипнула дверь, что-то ухнуло на крыше, задребезжало стекло от порыва ветра, неожиданно все звуки перебило тиканье напольных часов и последнее, что врезалось перед сном в память – это мирное посапывание брата на соседней кровати.
Утром Аким проснулся от солнечных лучей, ласкающих лицо и весело играющих на циферблате старинных часов, стоящих на столе.
«Глебка, наверное, шторы раскрыл, – глянул на пустую постель брата, и громко чихнул, перекрестившись на икону в углу. Круглые часы, на противоположной от кровати стене, пробили десять. – Сегодня же в церковь едем»,– подбежал к окну Аким и увидел одетого уже брата и похмельного кучера, с соломой в длинных всклокоченных волосах.
Ёжась от утренней свежести и чего-то недовольно бурча, тот выводил из конюшни серую в яблоках лошадь, которая, танцуя и взмахивая головой, нехотя переступала через высокий деревянный, вымазанный грязью, порог. Другая лошадь стояла рядом с коляской и нюхала рассыпанное под ногами сено, не обращая внимания на хлопающего ладонью по её боку Глеба.
Услышав стук в дверь и голос горничной:
– Барин, пора вставать, – Аким кинулся отыскивать одежду, разбросанную вчера вечером по комнате. Один сапог никак не мог отыскать.
«Ну, Глебка, попадёт тебе от меня», – не успел подумать Аким, как увидел под кроватью подошву утерянной обуви.
Попив чаю, мать с сыновьями и гувернанткой тряслись в ландо – четырёхместной коляске, по вымощенной камнем дороге, выезжая из усадьбы.
Братья сидели спиною к кучеру и делали вид, что слушают нравоучительную болтовню мадемуазель Камилллы, слава богу, на русском языке, вещающую о том, что на предложение хозяина или хозяйки войти первому в экипаж, должно соглашаться, не заставляя себя ждать.
– Садиться в экипаж следует осмотрительно, не торопясь, и в особенности этот совет относится к дамам, которые, при излишней торопливости, могут легко запутаться в длинном платье, и не только поставить тем себя в смешное положение, но, что ещё хуже, повредить ногу.
При этом вещунья глядела не на ребят, а на барыню, чем её и возмутила.
– Меня, милочка, не надо учить, – воскликнула Ирина Аркадьевна, – я ещё в Смольном институте эту науку прошла, – гордо отвернула голову в сторону полей, раскинувшихся по обе стороны от дороги и далёкой темноты леса.
Глеб захихикал, наслаждаясь оправданиями гувернантки перед матушкой, а Аким всматривался в кирпичную арку над воротами с двумя выбитыми цифрами – единицей и семёркой, и полустёртой буквой «Г».
«Чего обозначают эти цифры?» – стал размышлять он.
Коляска весело шелестела резиновыми шинами по неглубокой грязи деревенской дороги. Не прошло и получаса, как экипаж подьехал к церковной ограде.
Покрестившись на три сверкающих позолотой купола, семья пошла к церкви, одаривая по пути нищих и калек.
Последним шёл Глеб. Выданную матушкой мелочь он ссыпал в карман, а нищих и калек одаривал в основном видом своего красного языка. Те тоже не оставались в долгу – метко плевались, стараясь угодить ему на сапоги.
В церкви было прохладно, сумрачно, торжественно и тихо. Чуть слышно потрескивали свечи. Старенький батюшка стоял около аналоя и сосредоточенно и монотонно бормотал молитву, временами осеняя себя крестным знамением. Несколько старушек в платочках мелко крестились, повторяя за батюшкой: «Во имя Отца и Сына…».
Аким молился перед иконой Божьей Матушки, удивительно похожей на его прапрабабушку, чей портрет висел в доме. Крестился и кланялся Николаю Угоднику, с трепетным любопытством любуясь росписью стен, где неизвестный художник изобразил Рождество Иоанна Предтечи и Спасово Пречистое Рождество.
Он молился, вслушиваясь в почти незнакомый, но такой родной и прекрасный славянский язык, на котором вёл службу священник, и неожиданно слёзы затуманили ему глаза.
А потом мать повела их в склеп, где покоились его с братом предки.
Поставив свечу, он прочёл надпись на граните:
Капитан Максим Акимович Рубанов.
1793 – 1832.
Его прадед. Как он жил? О чём мечтал? В семье ходило много легенд и преданий о нём.
А вот его дед:
Генерал-лейтенант Аким Максимович Рубанов.
1817 – 1881.
Аким не видел его. Он родился на следующий год после смерти деда.
Даже Глеб в кругу далёких пращуров заметно оробел и несмело крестился, кланяясь каждому из своих предков.
После церкви матушка велела кучеру везти их к рубановскому старосте.
На этот раз ехали молча. Мадемуазель Камилла сидела тихо и нравоучительных бесед не вела.
По дурной привычке всех кучеров, ямщиков и других работников гужевого транспорта, перед вьездом в Рубановку, дабы произвести положительное впечатление на аборигенов, похмельный кучер стеганул лошадей, что-то дико заорал нечеловеческим голосом, и лихо пронёсся мимо торговой лавки, обдав пылью недовольных покупателей и взбаломутив дремавших собак. Затем, выкатив глаза, попытался осадить тройку у кабака, но тоскливо вздохнул, вспомнив, что на работе, и ещё сильнее взревев, горестно промчался мимо питейно-закусочного заведения, остановив взмыленных лошадей перед двухэтажным кирпичным домом старосты под блестящей жестяной крышей, увенчанной ещё более блестящим здоровенным медным петухом.
В ту же минуту, словно по волшебству, из не успевшей осесть пыли, вынырнул маленький рыжий мужичок в голубой ситцевой рубахе навыпуск и в расстёгнутой жилетке с золотой цепочкой от часов на выпуклом животике. Умильно улыбаясь, он что-то говорил барыне, закрывшей нос платочком.
Когда пыль немного улеглась, Ирина Аркадьевна легко вынесла из коляски своё чуть полноватое тело, одетое во всё тёмное, и протянула старосте руку, к которой тот подобострастно припал.
– Ах, Ирина Аркадьевна, – сюсюкал староста, – а мы вот враз опосля Воздвиженья капустку, значится, рубим, – возникал он то спереди, то сзади, то с боков своей госпожи.
– Я уже головой устала крутить. Иди с одной стороны, – сделала старосте выговор.
– Сию минут, – пристроился тот по правую руку.
Весь просторный двор был заставлен возами с капустой. В углу двора, вычислив направление ветра, чтоб сносил дым к соседям, двое работников парили пузатые кадки. Один споро наливал в бочку ведро с кипятком, другой бросал раскалённую металлическую пластину, и оба дружно накрывали бочку рогожей.
Глеб с завистью глядел на мужиков.
«Каким интересным делом люди занимаются», – почесал он щёку.
Аким же рассматривал женщин, дружно обрабатывающих острыми сечками сочные кочаны над длинным деревянным корытом.
– Бабы, – шмелём отлетел от барыни староста, – мельчей теши, домой не спеши. Всем в подарок ленты будут, – повёл помещицу в дом, отчитаться в доходах за отданную мужикам в аренду землю.
Ребята с гувернанткой остались на улице.
Мадемуазель Камилла брезгливо морщилась, слушая острые, как сечки, женские шутки и заразительный смех.
Барчуки взрослого юмора пока не понимали, и пошли к двум пацанам примерно их возраста, трескающим одну за другой хрустящие кочерыжки.
Одна из женщин, обтерев о фартук руки, протянула по кочерыжке юным господам.
– Как зовут? – хрустя сочным подарком, поинтересовался Глеб у невысокого рыженького паренька. – А-а-а! – узнал он недавно тонувшего моряка. – Это не в твой корабль капусту рубят? Чего молчишь?
– Васятка, – шмыгнув курносым носом, с обидой произнёс паренёк.
– Васятка, станцуй вприсядку, – презрительно отошёл от него Глеб.
Обратно ехали тихим шагом, так как барыня, ткнув предварительно кучера зонтом в спину, укоризненно сказала:
– Ты, Ефимка, так не гони, не на ипподроме находишься.
«Госпожа, а как матюжится», – изумился кучер, и всю дальнейшую дорогу размышлял, на ком же это он, по разумению барыни, находится.
Вечером Аким снова стоял перед портретами своих пращуров, и с грустью убеждался, что ни на одного из них не похож.
«Все они светловолосы, а я волосом чёрен, и глаза у них голубые, а у меня тёмные. Вот Глеб в них, – позавидовал брату, – а я в матушку…».
Но грусть эта была недолгой. Всё равно они его предки. И он тоже Рубанов, к тому же – первенец, и носит имя Аким, а не какое-то там – Глеб.
И опять уютно тикали напольные часы, матушка играла на рояле. Горел камин. Брат возился с собаками. И когда одна из борзых подошла к креслу, где сидел Аким, и дружелюбно потёрлась о ногу, он вдруг понял, что вот оно – счастье, и с трудом удержал слёзы, повернувшись к стене и разглядывая блики огня на ней.
Всю свою жизнь будет он вспоминать тепло и уют домашнего очага…
Утром их разбудили рано.
По крыше барабанил дождь, и Акиму так не хотелось выходить в сырость улицы.
Глеб же, напротив, с нетерпением ожидал отьезда, приготовившись к нему ещё со вчерашнего вечера. Он был счастлив, что ехать в ландо придётся до самого уездного города, а оттуда, по железной дороге, до Петербурга.
– Ирина Аркадьевна велели одеваться теплее, – проверяла, застёгнуты ли все пуговицы на их пальто, гувернантка.
Перед парадным подъездом выстроились в ряд четыре экипажа. В один грузились вещи, в другой, весело толкаясь, две горничных. Швейцар и старичок-лакей в третьем. В напоминающем карету ландо с кожаным верхом, провожаемые нянькой и оставшейся прислугой, помолившись перед дорогой, разместились господа с гувернанткой.
Дождь разошёлся не на шутку.
– Это к добру! – кричала вслед старая нянька, прощально взмахивая рукой, а другой, стирая с морщинистого лица слёзы и капли дождя.
Ехали медленно, разбрызгивая колёсами грязь. Хмурые, серые тучи висели низко над землёй.
Рубановка встретила их унылыми от дождя домами, почерневшими мокрыми плетнями и выглядывающим из-под плаща старостой, стоявшим возле своего дома, на краю грязной дороги. Двумя руками он вцепился в плащ и, прощаясь, по-лошадиному тряс головой, развеселив этим Глеба до коликов в животе.
Аким же наблюдал за одиноким прохожим, пересекавшим дорогу. Поскользнувшись, и не успев зацепиться рукой за плетень, тот грохнулся в жидкую грязь колеи.
«Спасибо, Глеб не увидел, – подумал Аким, – а то ржал бы до самого Петербурга».
Вскоре проехали Рубановку, протарахтели по расшатанному мостику, отделяющему рубановские наделы от чернавских, и покатили дальше, провожаемые каплями дождя и криками галок на пашне.
Было печально и пусто.
Люди попрятались от непогоды в тёплые дома. Лишь изредка попадались лошади, со спутанными передними ногами, да грязные телята, привязанные длинной верёвкой к колышку и щипавшие травку на зеленях.
Подъезжая к уездному городу, на пересечении дорог у полосатого верстового столба, чуть не столкнулись со встречной двуместной коляской, из которой выпорхнула молодая особа, долго обнимавшая и целовавшая Ирину Аркадьевну.
Всю дальнейшую дорогу до самой станции, подняв вуальку, барыня прикладывала батистовый платочек к влажным глазам.
Станция была небольшая и мокрая.
На запасном пути, у насыпи с бревном, выполняющим роль шлагбаума, стоял разбитый товарный вагон. Дождь кончился и словно по команде из вагона вылетели куры во главе с цветастым петухом, и стали что-то выискивать рядом с рельсами. Иногда петух, обнаружив, на его взгляд, прекрасное стёклышко или сочного красного червяка, громко кудахтал, созывая клушек, и плотоядно склёвывал находку на их глазах, когда те слишком близко подбегали. Разочарованные клуши тоскливо расходились в разные стороны, ругая
на курином языке своего повелителя, но через некоторое время, растопырив для скорости крылья, вновь мчались на его зов, чтобы с тоской понаблюдать, как их господин проглотит очередную вкуснятину.
Глеб с интересом наблюдал за куриной жизнью, восторженно улыбаясь, когда петух, разозлившись на одну из своих жён, набрасывался на неё, хватал за гребень и давал ей взбучку.
– Вот так командира не слушаться! – обращался он к мадемуазель Камилле, на что та краснела, стыдливо отводя глаза в сторону.
Акима пернатые не интересовали. Он наблюдал за жандармом в тугом синем мундире, а тот, в свою очередь, заинтересованно следил за их гувернанткой. И когда мадемуазель Камилла отворачивалась от петуха в сторону жандарма, он молодцевато выпячивал грудь, важно хлопал по кобуре и мечтал, чтобы кто-нибудь нарушил порядок.
Но к его сожалению, кроме петуха, все соблюдали приличия и законность.
Ирина Аркадьевна, возглавляя свиту, состоящую из двух горничных и швейцара, направилась к зданию вокзала за билетами, оставив старичка-лакея сторожить вещи.
Удобно подрёмывая на огромном бауле, он встряхивался, когда гремя шпорами и заложив руки за спину, рядом шествовал жандарм.
« Ишь, растопался, сукин кот, – делая вид, что дремлет, следил за ним старичок, – чичас только отвернись, враз чего-нибудь слямзит, сельдь околотошная».
Где-то вдали раздался приглушённый гудок паровоза и в ту же минуту ребята увидели, как из здания вокзала показалась их матушка во главе своей свиты.
Жандарм на всякий случай вытянулся и отдал ей честь.
Свита кинулась к вещам, уронив с баула старичка-лакея, но Глеб этого не видел.
«Не везёт сегодня парню», – пожалел его брат, наблюдая, как старичок-лакей, подпрыгивая от азарта, чего-то обьясняет улыбающемуся толстозадому швейцару.
Ещё раз прогудев, из-за поворота появился паровоз, таща за собой хвост разноцветных вагонов.
Свита, распределив кому что тащить, толпилась вдоль платформы. Ехать им предстояло во втором классе.
Барыня с детьми и гувернанткой разместились в вагоне первого класса.
Швейцар, принёсший в купе корзинки и пакеты с пирожками, жареными курами и прочей снедью, объяснял гувернантке, что надо есть в первую очередь, а что может и полежать.
Братья, сидя у окна по обеим сторонам столика, наблюдали, как поддерживая друг друга, на платформе появились затрапезно одетый сторож в видавшей виды кепке, и начальник вокзала в фуражке и железнодорожной форме.
Расцепившись и лязгнув зубами, они разошлись в разные стороны.
Сторож, вытянув руки вперёд и пошатываясь, пошёл ловить колокол, а его начальник начал шарить по карманам нащупывая свисток.
Жандарм неодобрительно хмурился на друзей, а потом отвернулся в сторону города.
Больше из этого Богом забытого городишки никто не уезжал. Платформа была пуста.
Наконец сторож добрался до колокола, и чуть не сорвав его, дёрнул за верёвочку с грузом.
Раздавшийся звук его явно не удовлетворил. Почертыхавшись, он снял кепку, и снова дёрнул за верёвку. На этот раз колокол блямкнул громче.
Начальник, наконец, нашёл свой свисток, и они вместе сним стали искать рот, попадая всё больше в нос или щёки.
Сторож, в сердцах бросив кепчонку на брусчатку платформы, яростно топтал её, справедливо полагая, что во всём виноват головной убор. После проделанных физических упражнений он взбодрился, крепкой уже рукой взялся за верёвку и платформу потряс громкий удар колокола. Блаженная улыбка осветила его помятое лицо.
В это время свисток нашёл рот, и начальник вокзала задребезжал губами, разбрызгивая слюну. Сосредоточившись, он произвёл вторую попытку, издав такой разбойный свист, что жандарм вздрогнул и схватился за кобуру.
Чуть потише свистка загудел паровоз, и состав тронулся.
Аким открыл дверь купе и подбежал к другому окну, успев заметить, как из товарняка выглядывает петух, намереваясь выпрыгнуть и показать своей своре баб, какой у него прекрасный аппетит.
__________________________________________
Россия пила и работала, смеялась и плакала, веселилась и горевала, а в Ливадии умирал русский царь…