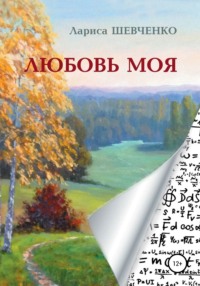полная версия
полная версияНадежда
К нам подошел полный молодой мужчина с маленьким ребенком. Присмотревшись к Коле, он вдруг спросил:
– Не Петровых ли ты внук?
– Петровых, – солидно ответил Коля.
– Мы с твоей старшей сестрой Людой в школу вместе ходили. Ребята, наловите, пожалуйста, раков для моего сына. Он их еще не видел живыми, потому что мы теперь в Москве живем.
Коля сразу бросил удочку и позвал меня в воду. Мы взялись за края кошули и поволокли ее боком по дну. Протащив метров десять, приподняли. Молодой человек высыпал раков на берег в траву. Пока он считал улов, малыш восторженно бегал вокруг шуршащих пятящихся серо-зеленых страшилищ, но близко не подходил. Стоило какому-либо раку направиться в его сторону, – он с криком убегал. Мужчина отобрал пятьдесят крупных, а мелочь выкинул в реку подрастать. А потом сказал:
– Может, вы попробуете под кустами походить? Раков мне больше не надо, но здесь язи и щуки водились в моем детстве.
Мы опять поволокли орудие лова по дну. Вместе с раками попалась большая рыбина. Мужчина больше, чем ребенок, радовался удаче. Он восторженно смеялся и беспрерывно повторял:
– Я точь-в-точь таких ловил, когда был пацаном. Только речка была глубокая, с «ручками», и мне приходилось нырять. А еще я ставил под кусты двойную кошулю.
Рыба туда заплывала, а назад выбраться не могла.
– Рыба отовсюду выплывет, – возразил Коля.
– Кошуля сплетена была, как ваша школьная чернильница, понял?
– Ну, то другое дело, – с видом знатока подтвердил брат.
Неожиданно в моих трусах что-то заплескалось и заскользило вокруг тела.
– Змея в трусы заплыла! – завопила я.
– Змей здесь нет. Есть только ужи, – попытался успокоить меня молодой человек. – Скорее всего, это щука. Лови ее, прижимай к себе!
Вдруг я представила себе, как зубастая рыбина кусает меня, и с перепугу сняла трусы. Выйти без них из реки я постеснялась и бросила завернутую рыбу на берег. Но та выскользнула и шлепнулась в воду.
– Не переживай. Еще поймаете. Идите вдоль кустов и шумите ногами. Рыба сама от берега кинется к вам, – посоветовал мужчина.
И точно, подняли мы на берег кошулю, а там три щуки и много мелкой с ладонь рыбы. Коля объяснил: «Плотвички». Прошли мы вдоль берега с километр, наловили еще два десятка щук и одного «пидъязка», как говорил наш новый знакомый. На радостях мы отдали ему третью часть рыбы. Зубы щук малыша пугали, и он попросил не брать у нас такой страшный подарок. Их мы оставили себе. Дядя бросил в сумку с раками несколько плотвичек. Вдруг рак схватил рыбку клешней и разрезал пополам. Малыш заплакал и, всхлипывая, произнес:
– Она такая красивая, блестящая, а он ее…
Коля тоже отвернулся и признался мне:
– Конечно, приятно, когда бабушка хвалит, кормильцем называет, но ловить рыбу очень жалко, особенно маленькую.
Глава Третья
ВСТРЕЧА НА ДЕРЕВЬЯХ
Иду со станции довольная. Повезло сегодня. Очередь в магазине была маленькой. Могу позволить себе немного погулять. Свернула на тропинку, ведущую к речке, и подошла к группе развесистых тополей. Повесила сумку на нижнюю ветку дерева и полезла наверх в поисках удобного местечка. Нашла. Лежу, тихонько насвистываю. Вдруг слышу:
– Только соловьев-разбойников нам не хватает.
Оглянулась. На соседнем дереве сидела черноглазая темно-русая крепкого сложения девочка.
– Помешала? Извини. Тоже любишь по деревьям лазить? – миролюбиво обратилась я к ней.
Девочка ничего не ответила. После небольшой паузы она, ловко повиснув на ветке, как на турнике, сделала несколько упражнений, потом спрыгнула и, не оглядываясь, пошла в сторону станции. «Не нравится моя компания. И не надо! Мне решительно безразлично. Мне нет дела до тебя», – надула я губы. А в глубине души прятала желание больше узнать о строптивой девчонке.
Сидеть на дереве расхотелось. Отправилась домой. Но мои мысли все равно занимала незнакомка: «Независимая? Гордая? Молчаливая, неприступная. Почему не захотела разговаривать? А глаза грустные, недоверчивые». Дома отвлеклась делами и забыла о встрече.
Прошла неделя, и я опять оказалась на тополе рядом с той же девочкой. Не знаю почему, но вместо «здрасте», я показала ей язык. В ответ услышала презрительное:
– Хорош! Годится сковородку подмазывать.
– А ты пробовала? – отшутилась я.
Девочка не удостоила меня ответом, но окинула придирчиво-пристрастным взглядом.
– А я, когда жила у дедушки, сдуру строила рожицы перед горячим блестящим чайником и нечаянно коснулась его языком. Аж взвыла от боли! А когда зимой на поезде сюда ехала, полизала блестящие поручни при входе в вагон и прилипла, – зачем-то рассказала я.
– Сорок блестящие предметы притягивают, – хмыкнула девочка.
– Значит, я любопытная, – не обиделась я.
– Все любопытные, – эхом отозвалась незнакомка.
И вдруг засмеялась странным, совсем невеселым смехом.
Я тут же воспользовалась неожиданно предоставленным случаем, чтобы продолжить беседу.
– Расскажи, может, вместе посмеемся? – осторожно, со всей доступной мне благосклонностью и лаской в голосе попросила я.
– Чего? – молниеносно резко и мрачно вскрикнула девочка и тут же форменным образом застыла с удивленно-досадливым выражением лица.
– Веселое вспомнила? – чуточку обеспокоенно уточнила я, на всякий «пожарный» случай готовясь к отступлению.
– Уж такое веселое, что плакать хочется, – передернула плечами незнакомка.
И все же теплые искорки на мгновение осветили ее туманно-черные глаза, и она заговорила низким, чуть хрипловатым голосом:
– Вспомнила, как однажды зимой воспитатели вывели нас на прогулку. Каждый занимался своим любимым делом: кто снежную бабу лепил, кто в снежки играл. А мы с другом Сашкой к турнику подошли. Он притронулся кончиком языка к холодному железу, быстро оторвал и поддразнивает меня, мол, не выдержишь, сколько я смог. Я прикоснулась, а сама решительно и бесповоротно намерилась дольше продержаться, потому что упрямая. Чувствую, язык примерзает. Пора отрывать. Но не тут-то было! Он прирос к турнику. Что делать? Сашка испугался за меня. Осознал себя виноватым и мгновенно скис. Глаза его расширились. Попытался сам отодрать, чтобы освободить меня от кошмара, но только кровь выступила на языке. Боль – жуткая. Слезы градом текут. Судорожно, как рыба на песке, глотаю ртом воздух. Показываю рукой в сторону воспитательницы. Сашка догадался и позвал ее.

Воспитательница, не торопясь, подбоченясь, приблизилась, наводящим ужас глухим голосом выяснила причину, по которой ее побеспокоили, сняла варежки и потянулась ко мне. От нее веяло враждебностью и безжалостностью. Мной овладело недоброе предчувствие, холод растекся по спине. «Ну, эта точно оторвет», – подумала я и закрыла глаза в безысходном ожидании своей печальной участи…
Сколько времени прошло, не знаю. Только чувствую, что на язык льют теплую воду. Открываю один глаз, потом другой. Ожидание бесконечно. Не верю в спасение. Наконец, замечаю, что Саша запихивает онемевший язык мне в рот и тащит на горку. Пытается отвлечь от боли. А мне плохо и тоскливо. Я измученная и жалкая до омерзения. Катаюсь молча. Снег падает крупными хлопьями.
Рядом Валерка Сущенко крутится. Из него хлещет веселая энергия. Он не знает, куда ее применить: то горстями сгребает снег и подкидывает вверх, осыпая себя и ребят, то лепит тугие шары и швыряет в чью-то спину. Потом принялся валять мальчишек в сугробы. При этом он смеется, кричит во все горло и отплясывает чечетку. Ему так хочется, чтобы кто-нибудь обратил на него внимание, разделил его радость! А все шарахались от него как от «чумного». Тогда он набрал в маленькое ведерко снегу да как со всего размаху кинет! И надо же было мне именно в этот момент приподняться! Бац! Скверное ржавое ведерко «с наполнителем» попадает мне прямо в глаз. Я грохнулась. На лед рухнула. Из рассеченной брови не просто струится – брызжет во все стороны кровь! «Подлая тварь, вероломный мальчишка», – в безумном страхе ору я. Сашка этим же ведром как «навернет» по Валеркиной голове, чтоб знал, с кем имеет дело! И его лицо омылось красным. Меня с Валеркой заточили в медпункт. Лежим, мстительно собачимся, показываем от злости друг другу зубы, несем околесицу, но сделать гадость не решаемся. Только обидой и отчаянием отравляем себе жизнь. А мой жених мужественно перенес наказание. Саша – мой надежный щит. Я ему целиком и полностью доверяю.
– Ну и денек у тебя тогда выдался! – посочувствовала я и созналась: «Что касается меня, то, по правде говоря, я себя считала самой невезучей.
– Везенье – не для меня, – безразличным тоном сказала девочка, спрыгнула с дерева и скрылась за могучими зарослями крапивы.
Я не посмела ее удерживать. Незатейливая грустная история незнакомки отчетливо вырисовывала в памяти трудные моменты моей жизни. Меня огорчала неспособность стряхнуть с себя горести воспитанницы детского дома, неумение утешить ее, как это делала моя Лиля.
Тихо колыхались листья тополей, пылила дорога. А я, задавленная одиночеством, привычно копалась в неразрешимых жизненных коллизиях, в бездонных глубинах грустного человеческого бытия.
НЕБО В АЛМАЗАХ
Сегодня девчонки с нашей улицы расположились у моста на пологом берегу реки, а уже знакомая мне компания детдомовских детей – на высоком. Мои подружки строят дворцы из песка, а я смотрю на воду. Удивительная у нас речка. Часами могла бы разглядывать на ее поверхности «буруны» – воронки. Одни только появляются, другие уже исчезают. Есть одиночные, размером не больше рюмки, и огромные, с метр шириной. Страшные! Некоторые воронки располагаются по кругу, а потом, гонимые течением, выстраиваются в линию. Речка дышит. Выдыхая, она выталкивает на поверхность глубинные воды, которые сразу же растекаются, выравниваются. Но ненадолго. Опять возникают новые и новые слои, которые, сливаясь, образуют змейки границ и покрываются впадинами или водоворотами. Дети сейчас не купаются, и ничто не мешает мне созерцать таинственные превращения.
Подошел рыбак. Опустил удочку в воду и присел рядом со мной.
– Отчего здесь буруны? – спрашиваю.
– Наверное, от неровностей дна. А стремнина потому, что место здесь узкое. Ишь, как поплавок пляшет!
Молчим. На высоком берегу высокие стройные сосны еле заметно качают короткие стрижки крон. А на песчаном откосе молодой ельник. Он сплошь усыпан золотистыми шишками-свечками, устремленными в небо. Рядом березы задумчиво глядятся в реку. Их отражения дрожат мелкой рябью на поверхности воды, так что трудно смотреть. У берега полощутся длинные водоросли. Их золотые отблески беспрерывно меняют рисунок. Стайки мальков косяками носятся на мелководье. Вокруг меня в траве шуршат юркие ящерицы. А над нами тучи мошкары. Меня едят, соседа – нет. Я чертыхаюсь, а он смеется:
– Вкусная ты, молоденькая. Зачем им замшелый старик?
Снова погрузилась в приятную задумчивость. Громкий властный голос вывел меня из состояния блаженной неги. Воспитательница отчитывала мальчишку.
– Меня не интересует, кто виноват. Всех накажу!
При этих словах грустное и далекое всколыхнулось в моей душе. Тут я увидела знакомую девочку и направилась к ней через мост. Она тоже заметила меня и отошла от своих подруг немного в сторонку.
– Уже знаешь про нас? – глядя исподлобья, с трудом выдавила она.
– Знаю. Ну и что? – внешне безразлично спросила я.
– Да ничего! – с вызовом ответила девочка.
Я поняла ее чувства и, чтобы уменьшить разделявший нас барьер, сказала:
– Когда мой дедушка умер, меня сюда привезли к его родственникам.
Девочка смягчилась. Мы познакомились.
– Во что твои подружки играют? – спросила Лена.
– В дочки-матери. Сейчас они пупсиков купают.
– У тебя есть куклы?
– Нет, – ответила я.
Лена тоскливо вздохнула:
– У меня раньше был малюсенький пупсенок. Его подарила мне любимая воспитательница Раиса Ивановна в дошкольном детском доме. Старенькая, добрая была. Бывало, всех пожалеет, приласкает. Мы все к ней так и липли. Раиса Ивановна часто брала меня к себе домой и укладывала спать на высокую мягкую перину. Я проваливалась в нее и крепко спала по двенадцать часов подряд. Мне у нее было всегда так покойно! Разносолов особых она не имела, и комнатка была маленькая. А когда выходные пролетали, Раиса Ивановна снабжала меня всякими сладостями. А однажды подарила пупсенка. Боже, как я его любила! Он казался мне самым родным, самым дорогим на свете. Потом меня привезли в ваше село.
Лена расслабилась, расплылась в приятных воспоминаниях.
Вдруг в ее голосе послышались нотки озлобления, и мне сразу захотелось укрыться от всех бед и горестей неправильного мира. Лена, нахохлясь, медленно и хмуро продолжала:
– В первом классе я часто брала подарок с собой в школу, потому что скучала по Раисе Ивановне. Раз на уроке я рассматривала пупсенка и чуть не плача вспоминала любимую воспитательницу. Уже не помню, почему мне было в тот день так грустно. И вдруг учительница Тамара Гавриловна отобрала куколку. Я так просила, так умоляла вернуть ее мне! Напрасно! Она насмешливо смотрела на меня, и от этого было еще тяжелее. Так я лишилась первого в жизни подарка. Теперь я понимаю, что не имела права на уроке отвлекаться, но тогда я была так измучена расставанием, новой обстановкой, что могла утешиться только любимой игрушкой…
Чувствую, как в Лене нарастает гнев, ярость, обида, слышу, как приумножается сила и горечь мучительных стонов. От них тревожно дрожит и вибрирует вокруг нас горячий воздух.
– Мы не любили свою первую учительницу. За каждую провинность она била по голове так, что указка ломалась пополам, а голова трещала как переспелый арбуз. Ругалась как тысяча чертей. У меня плохое зрение, а я сидела за пятой партой и не видела, что учительница пишет мелом на доске. Надо быть совсем дурой, чтобы не заметить мою злополучную близорукость. Учительнице было невдомек, что изображения предметов для меня растекались в бесформенное пятно, усеянное дрожащими тенями. Очков у меня тогда еще не было. Я чувствовала себя обойденной судьбой и очень страдала от комплекса неполноценности. Как-то настала моя очередь читать предложения. Я попросила разрешения подойти ближе к доске. Тамара Гавриловна зашла со спины, подняла меня за уши и понесла к доске. Ноги мои болтались, а она все держала за уши и била меня лбом о проклятую доску, приговаривая: «Я всех вас научу видеть». Потом водворила на место. Долго это продолжалось… А почему у тебя нет кукол? – неожиданно прервав жуткие воспоминания, удивленно спросила Лена.
– У меня своих никогда не было, – ответила я и замолчала, испугавшись своей откровенности.
– А сколько тебе лет? – поинтересовалась Лена, не заметив моего волнения.
– Тринадцать.
– Мне тоже. Раньше мы сами делали игрушки. Брали бумагу и вырезали кроватки, а в них укладывали спать свои пуговички. У них ведь две дырочки – глазки. Потом кроватки с «детками» ставили вдоль стены и ходили друг к другу «в гости». Маленькой я не испытывала жалости к людям. Я жалела мягкие игрушки с оторванными лапами. Мне казалось, что взрослые люди не чувствуют боли, а игрушки беззащитны. Их могут бросить, пнуть ногой, разорвать и вообще забыть. Защищая любую игрушку, я готова была драться не на жизнь, а на смерть. Смешно? Да? – спросила Лена, доверительно заглядывая мне в глаза.
– Нет. Для тебя они были живыми и главными друзьями. Они не обижали тебя, – ответила я и вздохнула с чувством глубокого облегчения, опрометчиво предполагая, что горькая душещипательная история не имеет продолжения.
Лена грустно улыбнулась:
– Знаешь, раньше, сама того не подозревая, я была такая глупая и бессердечная! Однажды так расшалилась на «тихом часе», что встала на спинку железной кровати во весь рост и запела. Я не мастак в вокале, но в тот момент так увлеклась, что забыла, где нахожусь, и в разгаре выступления шмякнулась на пол. Страшная боль, слезы, истерика! Тут как очумелая воспитательница несется, криком кричит: «Кто нарушил тихий час?!» Она была слишком рассержена, чтобы выслушивать оправдания. Целый час распиналась. А когда, наконец, увидела меня лежащей на полу в слезах, принялась искать виновного. Я испугалась, что сгоряча врежет… всю душу вытрясет, и свалила вину за шум на соседку по кровати, которая все это время спала праведным сном. Ее взяли под микитки и всыпали по первое число, потом в угол на горох поставили, а меня отправили в больницу и наложили на ногу гипс.
– У тебя есть хоть капелька совести! Разве можно так поступать с друзьями! – вскрикнула я возмущенно.
Лена торопливо и нервно оправдывалась:
– Потом в больнице сожалела, чувствовала себя последней сволочью. А в тот момент… ну, понимаешь… нога жутко болела, боялась, что отлупит, не разобравшись, что я покалечилась… у нас всегда так… все как-то само собой получилось…
Все мои мысли и чувства были на стороне незаслуженно наказанной девочки. Я молчала потому, что имела неоспоримое мнение на этот счет и не терпела никаких возражений и запоздалых угрызений совести. Я больше не хотела изливать свое негодование, но и не желала лицемерить, изображать сочувствие. Лена струсила. Никто из моих друзей так не поступал! Пауза затягивалась. Я не представляла, как разрядить сложную ситуацию, а уйти в такой напряженный момент считала неправильным. Лена, справившись с ощущением неловкости, продолжила рассказ:
– Когда я вернулась в детдом, меня ожидал друг Сашка. Он каждый день тайком пробирался в нашу комнату, успокаивал меня, поглаживая больную ногу, и в конце концов засыпал на полу возле моей кровати. Нас до сих пор зовут жених и невеста. Мы любим вместе в любую погоду смотреть из окна и мечтать. Я представляю, как вырасту и построю лестницу до неба. И тогда все, что там есть, станет моим: домик из облаков, цветущий сад и счастливая тишина.
Я удивленно воскликнула:
– Надо же! Я тоже часто представляю, как поднимаюсь в небо по золоченой, красиво изогнутой воздушной лестнице, ведущей к счастью, – удивленно воскликнула я. – Особенно люблю помечтать, после того как в невыносимо пресные, скучные минуты уныния перед сном слишком много, ужасно нудно и тоскливо рассусоливала.
– Но чаще от обиды на неудачную жизнь на меня нападает безрассудная бесшабашность. Трагедия несбывшейся мечты! В жизни все происходит обратно ожиданиям, поэтому хочется такую отвратительную заварушку устроить, чтобы все запомнили! Можешь быть абсолютно уверена: я не хочу и не могу отказать себе в таком удовольствии! Плакать обо мне все равно некому. И для общества никакой невосполнимой потери. Жизнь мне неинтересна. Мой удел – одиночество. Пусть все горит дотла ярким пламенем! Одним словом, моя жизнь – дерьмо собачье. Тоска верх одерживает надо мною. Становится досадно, обидно, завидно… На душе пустынно, темно. Я плыву по течению, а иногда острые моменты ищу от скуки, чтобы звезды казались ярче, – патетично заявила Лена.
– Не понимаю тебя! Небо в алмазах бывает от радости, – возразила я, досадливо поморщившись.
– Ну, кому от чего. У тебя от конфет, у меня от подзатыльников, – хмуро сказала Лена и пошла к своим.
От этой встречи на душе у меня остался тяжелый и горький осадок. Я искренне сочувствовала Лене, но со многим, с очень многим не могла согласиться. Настроение испортилось. «Я понимаю – в детдоме несладко. И что же? Всем мстить? И в кого тогда можно превратиться!» – думала я, сумрачно шагая по пыльной дороге, ведущей к дому.
ТАКАЯ ВОТ ЖИЗНЬ
Раздражение от последней встречи с Леной не проходило, но я все равно хотела ее увидеть. Почему меня тянет к ней? Мое прошлое, сочувствие? Я знаю, когда у детдомовских прогулка, и стараюсь ходить на станцию за продуктами в то же время. Вот и сегодня мы снова встретились с Леной на берегу реки под тополями.
– Как житуха? – машинально бросила Лена привычную фразу.
– На полную катушку, – ответила я стандартно.
– А у меня как всегда: бьет ключом, только все больше по голове.
– Хочешь хлеба?
– Что за вопрос? Конечно, хочу.
Я разломила довесок хлеба пополам. Лежим, жуем.
– Про обед вспоминаю, и сразу поташнивает, – с полным ртом говорит Лена.
– Мы другие довески тоже съедим, – тороплюсь я успокоить новую подругу.
– Хочешь, расскажу, как мы раньше обедали?
– Давай, – согласилась я.
– На обед нам всегда давали суп, в котором плавал огромный кусок вареного жирного-прежирного сала. Не съешь его – не получишь второго блюда. Сало застревало в горле, мы давились, но ели. Помнится, разглядываю я друзей, понуро сидящих над тарелками, и вижу, как Сережка Вениаминыч, по кличке Винька, непревзойденный шалопай и задира, сидит с восторженной крысиной мордочкой и показывает все тридцать два зуба. Маленькие блестящие глазки так и бегают, хитро осматривая столовую. Вижу, как его рука плавно опускается под стол, разжимаются пальцы, – и кусок сала плюхается на пол, трясясь, как желе. Серега быстренько наступает на него ногой и, выждав пару минут, просит второе блюдо. Повариха проверяет тарелку и дает ему картошки с подливой. Я таким же макаром сбрасываю свой проклятущий кусок под стол и наступаю сандаликом. Фу, как противно он расползался под обувью, словно живая гадина! Естественно, все ребята тут же, как по команде, повторили наши движения. Все чин чинарем! Сбитая с толку повариха раздает всем второе блюдо и радостно хвалит себя за то, что вкусно и калорийно приготовила еду. Обед закончился, а все сидят. Никто не решается выйти первым. Словно приклеились к стульям. Сдрейфили. В столовой воцарилась гробовая тишина. Атмосфера наэлектризована донельзя… Тут воспитательница как снег на голову. Окрысилась, ругается. Не помогает. Тогда она, вдрызг раздраженная, «выдергивает» одного, другого… и видит под каждым столом истоптанные куски. Сначала набычилась, лицо стало мрачнее тучи, садистская ухмылочка появилась, потом распсиховалась. Стулья пинать начала, ажно стены задрожали. Глазами под каждым столом шарит. Мочи нет терпеть. Свихнуться можно! Еще повариха на подмогу ей бросилась… Возмездие у нас никогда не запаздывало. Ох, и досталось нам тогда! Представляешь наше «состояние всеобщей радости?» – мрачно засмеялась Лена.
На ее лице вдруг появилось угрюмое выражение. И я кожей, а потом и каждой своей клеточкой почувствовала, что от Лены исходит что-то темное, недоброе. Мне сделалось неуютно. Между лопатками пробежал холодок. Захотелось поскорее уйти. Но я переборола себя.
– И что ты все о грустном!? Опять тоску нагнала, – сказала я мягко, сочувствуя Лене, но, желая переменить тему разговора. – Расскажи что-нибудь веселое. Мне, например, в школу ходить нравится.
– А я люблю, когда в детдоме отключают свет по вечерам, и мы сидим в темноте. Особенно здорово зимой, если за окном завывает ветер или идет снег. В такие вечера вместо каши-размазни нам дают омлет из одного яйца, два кусочка хлеба и стакан чаю. После такого «сытного» ужина мы собираемся в одной комнате. А у нас их четыре, и в каждой по двадцать пять человек. Мы рассказываем страшные сказка. Сначала поток слов струится бодро. Потом в разгар разглагольствований ненароком кто-то вдруг вспомнит историю про скопища страшных зверей и жестоких разбойников, шокирующую людей с незапамятных времен, начнет утверждать, что сей факт установлен раз и навсегда и сейчас имеет место быть. В мгновение ока буквально все замирают с сокрушенными сердцами. Ледяной ветер ужасов раздирает наши души и колючими мурашками пробегает по спинам. Становится жутко, все прижимаются друг к другу. В такие минуты мы представляем собой трогательную картину. Моя подружка Валя очень любит читать. Она пересказывает прочитанное в книгах, до тех пор пока мы не засыпаем.
Утром мы завтракаем, надеваем тонкие курточки, резиновые сапоги, вязаные шапочки и строем целую вечность тащимся по морозу в школу. На переменах нам очень хочется есть. Домашние покупают в столовке пирожки, а мы смотрим им в рот, – чрезвычайно подавленным тоном заканчивает рассказ Лена и сглатывает слюну.
Мы снова жуем хлеб и смотрим в небо.
– А мне из раннего детства запомнилось, как мы зимой сухие мороженые сливы собирали. Они почему-то не осыпались осенью. Лазили по грудь в снегу. Друг друга из сугробов вытаскивали. Руки застывали, как деревянные становились, пальцами не могли шевелить. Они едва разгибались. Дед Панько растирал их нам и согревал в духовке. Представляешь, какое счастье! Мне семь лет тогда было. А еще я в футбол хотела научиться играть, а старшие мальчики, чтобы отвадить меня, ставили на ворота и «обстреливали». Я мужественно терпела удары, но потом сама поняла, что эта игра не по мне. Зато они меня брали в овраг кататься на лыжах. По весне козырек снега в яру обвалился, и меня засыпало. Друзья откопали. Мне казалось, что ребята больше, чем я, волновались. Как они радовались, когда я живой осталась! – рассказывала я, погружаясь в добрые и радостные ощущения.