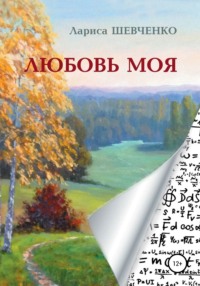полная версия
полная версияНадежда
– Ты уже большая и должна понимать, что несчастные случаи бывают очень редко. Твой папа умный и сильный. А про электрика я знаю. Под праздник это случилось. Выпил он много, контроль над собой потерял. Водочка ни профессора, ни рабочего не жалеет. Трудно теперь его жене с тремя малышами, – вздохнул дядя Гоша.
Тимка шмыгнул носом и тоже решил высказаться:
– Я был бы совсем счастливым, если бы не один случай. В начале лета я жил в деревне. Раз поймал в огороде маленького красивого мышонка, принес домой и посадил в стеклянную банку. Я хорошо ухаживал за ним, и родители разрешили привезти его в город. Я пошел гулять с ним на улицу. Взрослые ребята попросили посмотреть мышонка и пообещали вернуть, а сами швырнули его в огромную лужу. Весь в слезах я ползал на коленках в грязи. Всю лужу облазил, но не нашел мышонка. Старшие ребята смеялись надо мной, и от этого я плакал еще сильнее. Почему они такие жестокие!? Мама забрала меня домой. Я еще долго не мог успокоиться. Целую неделю ходил к той луже, надеялся, что мышонок все-таки выплывет. Но этого не случилось. Я больше не завожу себе зверей-друзей, потому что не хочу их терять.
– Я очень люблю папу, а мама его каждый день ругает. То он дров не наколол, то глины не принес. Я понимаю, что ей очень тяжело, ведь у нее и работа, и огород, и мой маленький братик. Но зачем из-за мелочей жизнь друг другу портить? Они даже смеяться последнее время перестали. Я стараюсь больше помогать по дому, но они все равно ссорятся. Мне кажется, главное, чтобы в семье была любовь и радость, а все остальное ерунда. Я переживаю и молчу, – вздохнула Анюта.
– А ты не молчи. Когда у родителей будет хорошее настроение, расскажи им о своих переживаниях. Скажи, что любишь их, хочешь видеть счастливыми, – тихо посоветовал дядя Гоша.
– А мне маму больше всего на свете жалко, особенно в праздник, когда она весь день стирает, полы моет, чтобы меньше думать про нашего папу и войну. Она боится, что без дела может с ума сойти от горя. – Катя замолкла, прижавшись к коленке дяди Гоши.
Приглушенно зазвучал и без того низкий голос Володи:
– Хорошего в моей жизни все-таки больше. Только горькое я чувствую сильнее. Мне тогда было четыре года. Папа пришел и сказал: «Володя, у тебя теперь есть братик Женечка». Как он выглядел, я не помню, но состояние, с которым тогда жил, мне трудно описать. Хотя у меня появились новые обязанности: качать кроватку, когда Женя плакал, играть с ним – все мне было в радость. В это время я был самым счастливым ребенком на свете. Но все прошло, потому что маму с братиком положили в больницу. День, другой… И вот пришел папа домой, и я услышал странные слова: «У тебя больше нет братика». Я не плакал. Я не понимал, что значит его нет… Но с тех пор не помню, чтобы хоть раз плакал по поводу чьей-то смерти. Я просто не мог этого понять… Я только чувствовал… И вообще не мог плакать…
В тишине беззвучные струны наших душ дрожали на высоких нотах детских горестей. В огромном царстве ночи, у подъезда, слабым светом контрольной лампочки освещался один из миллионов маленьких островков чутких сердец, устремленных к теплу и добру взрослых. Темное небо с яркими звездами висело над нами низко-низко.
– Он на какой-то звезде. Там живут самые счастливые, – тихо сказал дядя Гоша.
Тимка заревел. Володя сорвался с порожка и пропал в темноте.
– Догнать? – спросила Светлана.
– Не надо. Пусть побудет один, а завтра я сам его найду, – ответил дядя Гоша и добавил: – Моя очередь рассказывать о детстве.
Еще вздрагивали сердечки, еще теснилась в груди Володина беда, но спокойная размеренная речь дяди Гоши уводила нас в другую эпоху, в другую – сложную, но интересную – жизнь бывшего батрака-голодранца, одиннадцатого сына в семье героя Первой мировой…
Потом дядя Гоша развел нас по квартирам. Мне не спалось. Из окна кухни я видела, как упершись лбом в перила крыльца, дядя Гоша курил одну папиросу за другой.
ВОЛОДЯ
На следующий день я нырнула в заросли акации и обнаружила на поломанной качалке Володю.
– Привет.
– Привет. А я про тебя думал. Ты очень отличаешься от наших девчонок. Вроде тихая, а на турнике такое выделываешь, что мне страшно за тебя. Когда ребята, желая попугать, неожиданно крикнули из-за угла, ты даже ухом не повела, и пошла дальше, будто ничего не произошло. У тебя железные нервы?
– Наоборот. Почему ты следишь за мной? – бросила я Володе недовольно.
И получила в ответ несколько смущенное признание:
– Сравниваю с собой. Ты можешь за себя постоять, а я не могу ударить. Но я не трус. Просто боюсь человеку сделать больно или обидеть.
– Ты обидчивый?
– Очень.
– Я тоже, но терплю и вида не показываю, что мне плохо. Не люблю, когда жалеют.
– Почему?
– Начинаю реветь от жалости к себе и от злости, что не могу сдержать слез.
– Объясни, зачем ты вчера врезала Адьке?
– Он маленького обижал. Герка не мог себя защитить.
Глаза Володи открыто выражали сомнение по поводу правильности моего поведения.
– Адька не со зла. Он бестолковый и ко всем пристает.
Я раздраженно возразила:
– Пусть понимает, к кому можно приставать, а к кому нельзя. Привыкнет обижать маленьких и вырастет из него гад.
– Ну, так уж и гад, – неуверенно с расстановкой произнес Володя. – Зачем ты стремишься всех разнять, всех защитить, хотя тебя не просят?
– Все должны помогать друг другу, – нашлась я быстро.
– Из-за своего беспокойного характера ты всегда будешь попадать в истории. Я отцу о тебе рассказал, так он знаешь, как мне ответил? «Не за всякого человека надо на амбразуру бросаться».
– Ты бы не защитил маленького?! – вспыхнула я.
– Я не про то. Некоторые могут использовать твою доброту, подставить тебя.
– Как это? – удивилась я.
– У тебя всегда на первом месте желание помочь другому, но ты еще не понимаешь, что бывает потом, когда родители начинают искать виновного.
– А ты понимаешь?
– Не всегда, – уклончиво ответил Володя и нахмурился.
«Наверное, тоже раньше понапрасну «копья ломал»? (Так шутила бабушка Дуня.)» – подумала я. Помолчали. Володя заговорил неуверенно и тихо, словно боялся озвучивать что-то очень личное, сердечное:
– Я не смог вчера закончить свою историю. Разволновался. Не понимаю, как случилось, что рассказал самое сокровенное?
– Теперь жалеешь?
– Нет. Мне стало легче.
– Расскажи все до конца, – попросила я мягко.
Володя благодарно улыбнулся. В его лице появилась печальная просветленность. Он опустил затуманенные воспоминаниями глаза и спокойно начал:
– Два года назад у меня снова появился братик. Но не было той радости, как в четыре года. Я во всем помогал маме, много времени проводил с Виталиком, чувствовал себя его защитником, радовался успехам. Но, когда ему пошел девятый месяц, я как будто заболел: ходил задумчивый, скованный, подходил к Виталику и подолгу смотрел на него бездумно, как в забытьи. Я совсем извелся страхом за его жизнь. В тот тяжкий день я не отходил от него ни на шаг, даже в школу не пошел с маминого разрешения. Когда приблизился роковой час, я держал маленькие ручки брата в своих руках. Стрелки часов застыли. Последние минуты длились целую вечность. Я был как натянутая струна. Мама стояла рядом. Беда прошла стороной. Виталик улыбался. Я вдруг уткнулся лицом в коленки братика и заплакал. После этого будто заново родился…
Мы сидели на качалке, окруженной зарослями желтой акации, и молчали. За кустами шуршали шины машин вперемешку с дробным цокотом кованых копыт лошадей. Переругивались из-за бельевых веревок соседки. Но все это было вне нас, в другом, взрослом мире…
Вечером записала в дневнике:1. Витек, у меня появились настоящие друзья – Валя и Володя. Я представляю себе, что они и твои друзья. 2. Сегодня дядя Гоша рассказал про Александра Матросова. Он, оказывается наш, детдомовский. У него была одна мама – Родина. И он отдал за нее жизнь.
НЕЗНАКОМКА
День остывал малиновым закатом.
Я задумчиво брожу по задворкам нашей улицы. Гляжу на горы строительного мусора, спотыкаюсь о куски старой мебели – ищу удобное место для уединения. Здесь нет суеты, которая в сотне метров отсюда превращает жизнь многих людей в набор из кубиков. Кому, какие достанутся, такая и жизнь будет… На кубиках написано: «Беги туда, делай то, купи это…» И вдруг они рассыпаются. Чем их скрепляют? Дед Панько говорил, что человеческий мир существует, пока есть любовь. Без нее он погибнет…
Внезапно яркая вспышка заставила меня вздрогнуть. Луч света попал на обломок никелированной спинки кровати, потом, медленно угасая, заскользил по ржавой панцирной сетке и исчез вовсе. Подняла голову. Небо у горизонта испещрено темными, почти черными, красно-оранжевыми и малиновыми мазками. Солнце протискивается между цветными слоями облаков, расцвечивая выше лежащее темно-голубое небо веером тонких лучей. Оно на мгновение набрасывает редкую золотистую вуаль на тускнеющий вечерний небосклон и пропадает. Я остановилась, ожидая очередную россыпь солнечных брызг. И тут увидела девочку. Она сидела в нескольких шагах от меня на поломанном кухонном столе, застеленном газетой. Худенькая, изящная, даже грациозная. Светлые волосы туго заплетены в косы. Полные яркие губы. «Наверное, ее тоже дразнят «губатая», – мелькнуло в голове.
Большие глаза девочки грустные, точнее сказать, печальные, мечтательные. В эту минуту выражение ее лица было таким, будто она думала о мировых проблемах. Я не решалась приблизиться. Вдруг подо мной затрещала полусгнившая доска. Девочка вздрогнула, но взгляд ее оставался туманным, рассеянным. Я подошла и спросила:
– Ты тоже любишь гулять одна?
Она молчала, как бы раздумывая, отвечать мне или нет.
– Я не хотела тебе мешать, – сказала я осторожно.
– А зачем подошла?
– Потянуло. Ты не любишь разговаривать?
– Не то настроение.
– Понимаю.
– Сомневаюсь. Ты знаешь, что такое одиночество?
– Знаю. Я детдомовская.
– Прости.
– Ничего. Ты, тоже?
– Нет. Просто сегодня мне очень грустно. Я впервые поняла, что человек по своей сути очень одинок.
Ее голос в вечерней тишине звучал особенно трагично.
– Человек одинок, когда ему плохо. Если ему хорошо, он не думает про это, – попыталась я разуверить незнакомку. – Я первый раз почувствовала, что такое одиночество, когда один раз зимним вечером всех детей завели в корпус, а я почему-то осталась во дворе одна. Было холодно, ветрено, темно. Мне стало вдруг бесконечно одиноко в этом огромном, неведомом мире. Я поняла, что никому, никому на земле не нужна! А страх появился позже, когда, кое-как взобравшись на высокое крыльцо, стала стучать в дверь, а ее долго не открывали. Мне тогда три года было. А что случилось с тобой сегодня?
– С четырех лет я дружу с девочками, которые живут в деревне на одной улице с моей бабушкой. Мы играем в нашем саду в дочки-матери. Я приношу из дома посуду, куколи разные тряпочки. А сегодня утром слепой дождь прогнал нас из сада. Все разбежались, бросив игрушки на траве. Когда немного подсохло, мы пошли играть на баллоне от колеса грузовика: на одну его сторону садилась одна девочка, а на другую одновременно прыгали трое. При этом та, одна девочка, взлетала вверх. Подошла моя очередь «летать». Но мое падение закончилось неудачно. Что-то случилось с моей рукой.
– И они тебя бросили? – вырвалось у меня.
– Да нет. Сначала подружки подошли ко мне, но тут же быстро убежали. А я ушла в сад собирать игрушки. Мне пришлось несколько раз ходить из сада в дом. Я не только в руке носила игрушки. Кое-что брала даже в зубы. Наверное, я смешно выглядела с куклой в зубах?
– Нет, – уверенно и грустно ответила я.
– Я знаю, что дети редко думают о других. Но именно сегодня мне пришло в голову, что человек со своими бедами никому не нужен. Каждый думает только о себе, – закончила девочка печально.
– Не надо так говорить! Хороших людей много. Ты очень похожа на меня. Бабушка Мавра один раз сказала мне: «Тяжело тебе будет с таким добрым сердцем. Всю жизнь раненая будешь ходить».
– У тебя есть бабушка?
– Не родная. Но дороже ее тогда никого не было. А теперь у меня есть дед Яша.
Потом мы долго сидели молча. Наши взгляды были устремлены на ярко-красный шар, медленно сползающий в малиновую топь.
ПРАЗДНИК
Сегодня на нашей улице впервые открывается двухэтажный ЦУМ. Со всего города съехались люди и нетерпеливо толпились у входа. Громко играла музыка. Было солнечно, шумно, празднично.
Прозвенел звонок. Толпа хлынула в широко распахнутые двери. Мы с Валей подождали немного, а когда поток людей уменьшился, тоже вошли. Денег, конечно, у нас не было. Поглазеть захотелось. Девушки-продавцы очень вежливые. Один дядя заторопился порадовать дочку удачной обновой и не стал ждать, пока завернут и обвяжут шпагатом покупку. Но кассир окликнула его и объяснила, что на выходе может остановить милиционер. Неупакованный товар вызывает подозрение. Мужчина сразу вернулся к прилавку.
Вдруг за стеклом оконной витрины со стороны улицы я увидела Витю с нашего двора. Прижавшись лбом к стеклу, он плакал и не сводил глаз с огромного резинового надувного зайца. Смотрел так, будто в этот момент не надо ему было в жизни ничего, кроме этой игрушки. Голоса я не слышала, только видела, как сотрясались тощенькие плечи. Слезы текли по грязному лицу, капали с кончика курносого носа, с подбородка. Он вытирал их подолом мятой рубашки и, захлебываясь рыданиями, раскрытым ртом хватал воздух.
У меня полились слезы. Валя, ничего не заметив, потащила меня в другой отдел магазина. Я не сопротивлялась.
ГЕНЕРАЛ
Серое утро. Серые толпы народа у школы номер шесть. Тихо переговариваются женщины у гроба, раздавая указания. Зазвучал духовой оркестр. Печальная музыка вызвала у меня слезы. Почему я плачу? Я же не любила Виктора Николаевича. Он был плохим отцом, плохим учителем. И все же, был человек, – и нет его. Жалко.
Незаметно для себя опять оказалась у гроба. Лариса, старшая дочь (моя подруга), отрешенно брела, понурив голову, цепляясь ободранными ботинками за каждый выступ дороги. Ее брат Юра вел маму под руку. Он старался выглядеть взрослым мужчиной, маминой опорой. Как-никак – десять лет. Пятилетний Коленька висел на другой руке матери и прятал голову в ее широкой юбке. Их мама не плакала. Ее худенькое личико сделалось еще меньше. Глаза белесые, неподвижные. Она всегда ходила боком. Ноги ставила неуверенно, будто примерялась, чтобы не оступиться на острых камнях. Сегодня она шла, подняв голову поверх идущих впереди людей, смотрела вдаль с неопределенным, ничего не значащим выражением лица и, казалось, ни о чем не думала, никого не замечала, ни о чем не жалела. За семьей семенили старенькие женщины, одетые во все черное. Они тихо бормотали и крестились. На небольшом расстоянии от них двигалась основная масса людей.
Мое внимание привлек огромного роста мужчина в красивой серой шинели с золотыми погонами и высокой серой каракулевой шапке. Его лицо, с крупными резкими чертами, было деловым, спокойно-величавым, будто он находился не на похоронах, а на собрании.
– Кто это? – шепотом спросила я.
– Отец Катерины, генерал, – так же тихо ответила идущая рядом со мной женщина.
Я подошла ближе. Генерал говорил рокочущим, с перекатами басом, а женщины слушали: кто с любопытством, кто с подобострастием, заглядывая ему в рот. Сначала он ругал Виктора Николаевича, перемежая критику словами: «Конечно, нехорошо об усопшем говорить плохо». Потом взялся за дочь. Он с пафосом рассказывал о том, как она в восемнадцать лет пришла к нему со слезами и покаялась, что полюбила, а потом поняла, что он плохой человек и теперь не хочет выходить замуж, хотя беременна.
– Она на коленях умоляла меня помочь ей воспитать будущего ребенка, – возвысив голос, продолжал генерал. – Но я ей сказал: «Под забором заимела ребенка, под забором и расти его! Ты опозорила меня и мою семью! Как я своим коллегам в глаза буду смотреть? Что обо мне скажут, если каждый день будут видеть внебрачного ребенка? Иди к отцу ребенка. И выгнал. За поступки надо отвечать! Я проклял ее».
От этих слов в моей голове, будто что-то отключилось или включилось. Кровь прилила к лицу. В висках застучало. Расталкивая женщин, я подскочила к генералу и закричала:
– Вы бросили родную дочку в самую трудную минуту! Она обратилась за помощью, к единственному, любимому, а вы прогнали ее! Вы – богатый, а ваши внуки, как я слышала, голодные убегали босиком по снегу к соседям, когда отец пьяным приходил домой. Вы в сто раз хуже Виктора Николаевича! Вы хуже зверя!
Меня трясло. Я не говорила, а выкрикивала отдельные слова. Генерал опомнился и заорал зычным голосом:
– Убрать эту дрянь! Чье это?
– Не кричите на меня. Вы плохой… ненавижу вас…
Я уже не могла говорить. Две женщины вытащили меня из толпы и положили возле какого-то дома на лавочку. Одна из них гладила меня по спине и бормотала:
– Доброе сердечко, всех-то тебе жалко.
Под ее шуршащий голос я тяжело задремала и уже не чувствовала, как во сне рыдания встряхивали мое тело.
НА ОБЪЕКТАХ
Сегодня дед взял меня с собой на проверку пищевых объектов. Идем к трамвайной остановке. Впереди нас – парень в потертой фуфайке и лаптях.
– Смотри! – восхитился дед. – В лаптях, а в руках ведет новый, видно только из магазина, велосипед! Запомни мои слова: «Пройдет немного времени, и наш мужик в кирзовых сапогах сядет за руль собственного автомобиля!»
Сначала мы приехали на рынок. Наметанный глаз деда сразу замечал все недостатки.
– Почему сток воды засорен? – распекал он шустрого толстяка с железной бляшкой на левом кармане серого халата. – Ты хочешь, чтобы горожане и наши кормильцы из сел по отходам ходили? Посмотри, любезный, куда хозяйке сумку ставить? В лужу? Завтра проверю исполнение. Смотри у меня!
– Где мясо должно лежать? За лотком некого послать? – упрекал дед продавщицу.
– Да я же газетку постелила, – оправдывалась краснощекая, бойкая женщина.
– Ты мне улыбки не дари, красавица. Еще раз увижу несоблюдение правил, штрафовать не стану, с рынка выгоню, раз добрых слов не понимаешь.
Хозяйка засуетилась, кликнула мальчишку моего возраста. Тот, в кирзовых сапогах, в старом, длинном, по щиколотку пиджаке, в дырявом картузе, вмиг подскочил к матери и тут же прожогом (быстро, напрямик) помчался к раздаточной инвентаря.
– Где ветошь для рук, где марля на тушке? Руки о фартук не вытирай! Деньги не клади на весы, там же мясо сырое лежало! Не слюни пальцы, хозяюшка, когда деньги считаешь, – начиная сердиться, выговаривал мой дед торговке.
– Теперь понимаешь, почему тебя не пускаю на улицу в не глаженом платье и с грязными руками? С детства привычка к аккуратности прививается. Каждый день делаю замечания, но только угрозы заставляют продавцов подчиняться, – со вздохом сказал мне дед.
Медленно идем по рядам. Отовсюду слышу:
– Здравствуйте, Яков Иванович, доброго вам здоровья!
– Папа, вы их ругаете, а они с вами приветливы. Почему?
– Я же за дело ругаю, власти не превышаю и взяток не беру.
– Продуктами, что ли?
– Ни деньгами, ни продуктами. Поэтому сплю спокойно и уважение от людей имею, – объяснил мне дед.
Потом мы отправились по винным магазинам-подвальчикам. Везде нас встречали толстые, очень уж приветливые дяди. Я чувствовала неприятную нарочитость их слов и краснела. Они улыбались, говорили нам комплименты и наливали вино. Я понимала, что для проверки качества продукта достаточно одного глотка. Но каждый продавец наливал из бочки через шланг целую кружку. У первого продавца дед попросил рюмку и отлил немного вина. Понюхал, отпил, подержал чуть-чуть во рту, а потом сказав: «Вот это букет!», расписался в тетради. Но чем больше подвальчиков мы обходили, тем он становился менее строгим и уже не ругал за грязный передник и плохо вымытые стаканы, а просто пил вино и расписывался. Мне было стыдно. Я слушала бессовестную лесть и ложь, видела хитрые наглые ухмылки продавцов, спокойное каменное равнодушие зрителей и из приличия деланно натянуто улыбалась, а потом пряталась за спину деда, дергала за край его пиджака и шептала на ухо:
– Не пейте, пожалуйста, они вас обманывают, нарочно спаивают.
На мои мольбы и уговоры дед не обращал внимания и только весело бестолково отмахивался.
Продавцы начали и мне предлагать вина. Я понимала, что это неприлично, и сдержанно отказывалась. А сама думала: «Ему наливают из-за подписи, а мне зачем?»
В одном погребке еле стоящий на ногах дед тоже принялся упрашивать меня выпить, чтобы не обидеть хозяина. Я опешила, изумленно и растеряно оглядела его и почему-то согласилась к всеобщему восторгу мужчин, собравшихся вокруг бочек. Тут за спиной я услышала обидные, насмешки в наш адрес и слетела с тормозов. Вино на меня возымело действие, противоположное дедову благодушию. Я разозлилась и в яростном негодовании закричала, что они не любят моего папу и непорядочно ведут себя по отношению ко мне. Слезы брызнули из глаз, голос сорвался на визг. Я размахивала руками, топала ногами. Потом заявила, что не позволю больше издеваться над нами, и потащила деда домой. Он бормотал что-то несуразное, успокоительное, оправдательное, но, к моему удивлению, качаясь и спотыкаясь, все-таки пошел за мною на трамвай.
Дома дед свалился на мой диван и мгновенно заснул. А я еще долго сердито ворочалась и вздыхала.
ВОСПОМИНАНИЯ ДЕДА
Я заметила, что дед Яша с какой-то детской, восторженной радостью встречал любые мои познания в области медицины. «Может, пойдешь по моим стопам?» – спрашивал он, улыбаясь. Желая порадовать деда, я читала его книжки, пытаясь разобраться в сложной врачебной терминологии. А он в награду рассказывал мне истории из своей докторской практики.
– Вот, послушай, – говорил он мне как-то раз, – до войны это было. Бывало, дают мне лошадку, я беру свою сумку, по которой доктора узнавала вся округа, ну, ту, в которой ты теперь хранишь своих тряпичных кукол, и отправляюсь делать обход от дома к дому, от улицы к улице. Насмотрюсь, бывало, на серость людскую: и погрущу, и посмеюсь вволю. Жалко малограмотных людей! Учись дочка, чтобы себя уважала, и для других не посмешищем, а помощницей была.
Так вот, еду по селу. Слышу крики. Женщина к Богу взывает, а мужчина мат ей шлет, и потерпеть просит. Вбегаю в хату. Руки и ноги хозяйки привязаны к спинкам кровати. Муж на коленях умоляет жену провести лечение до конца. Сдергиваю с нее одеяло и в ужасе обнаруживаю под ним красную, в волдырях спину. Возмущаюсь: «Как я учил горчичники ставить?! Ты что, на супругу ведро свежей горчицы вылил? Хорошо, что сердце у нее здоровое. Сколько минут велел горчичник держать? Десять. А ты сколько?» «С полчаса, наверное. Как лучше хотел, чтобы скорее хворь вышла. Уж месяц кашляет. Какая польза от больной хозяйки в доме?» – оправдывается муж. «А если бы загнал до смерти? Детей сиротами оставил бы. Кто был бы виноват?» – корю я его. «Простите, ради Христа, доктор, – отвечает, – оплошал».
А одному старику выписал лекарство для глаз по тридцать копеек за флакон, так он обиделся: «Не хотите, – говорит, – доктор, меня лечить. Не уважаете. Давайте дорогого лекарства, а то пожалуюсь». Выписал я ему витаминов разных, чтобы успокоился. Он же здоров был, как медведь.
В другую хату захожу, а там вся родня собралась и смотрит, как топчет ногами спину сына родной отец. Бедный парень благим матом орет от боли. Спину он сорвал, когда лес на хату заготавливал. Я массаж прописал. Ну, так им же надо, чтобы больной на другой день скакал, а в лечении терпенье нужно, схема определенная. Еле отвоевал беднягу и в больницу отправил.
А с женщинами труднее всего. Некогда им лечиться. Детишки у них, домашние дела. Так они друг у друга «обучаются». Лежит одна в хате, скорчилась, но помалкивает. Приказал раздеться. Не хочет. Стесняется. Понимаю. Успокаиваю: «Для докторов все люди на одно лицо, мы только болячки видим». Задираю подол. А она утюг нагрела и приложила на больное место. Я ее живо на телегу, и в больницу. Операцию сделал. Жива осталась…
Тяжко умирают от заражения крови. На моем веку таких три случая было. Привозили поздно, когда уже судороги начинались. Особенно жалко мальчонку. С дерева спрыгнул на сучок… и Господь прибрал. До сих пор, как вспомню, душа болит о нем.
Бандитов в войну перевозил. Так этим хоть бы что! Передерутся с поножовщиной, потом берут иголку с обычной ниткой и зашивают друг друга без наркоза, без водки то есть. А кто и сам себя штопает. И ни одна зараза их не брала! Один на спор с моей шинели пуговицы срезал и при мне тут же себе на голую грудь пришил. Мне жутко, мороз дерет по коже, а они хохочут. Страху натерпелся с ними, хотя они с большим уважением относились ко мне и к моей профессии. Ни разу не тронули. Двадцать пять лет меж них работать пришлось. Они, конечно, тоже люди, хоть и пропащие. И у каждого своя судьба. С одним подружился очень. Душевный был человек. Жену из ревности убил, а потом всю жизнь страдал, винился. Молодой был, глупый. Потом философом стал, понял, что права не имел на чужую жизнь покушаться. Руки золотые, голова удивительно умная! А вот один раз черт попутал, и вся жизнь кувырком пошла. Вот этот дубовый шкаф он мне на память о нашей дружбе сделал. Три года доски по специальному рецепту готовил, и резьба – его рук дело. Да… всякое в жизни повидал за пятьдесят лет работы, – бормотал дед, засыпая.