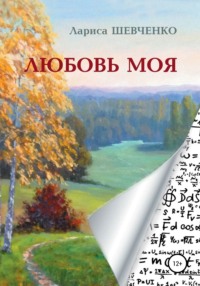полная версия
полная версияНадежда
Дед добродушно улыбнулся. Я успокоилась. Раз улыбается, значит отлегло.
ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ
Зашли с дедом в гастроном. Он что-то выбирал на ярко освещенной витрине прилавка, а я, как всегда, разглядывала людей. Вдруг мое внимание привлекли два странных молодых человека. Одеты они были не по сезону: в черных до пят шинелях с блестящими серебряными пуговицами и в черных форменных фуражках. Еще издали заметила, что они чему-то улыбаются. Приблизилась. Вдруг один из них подхватил меня на руки и так крепко прижал к себе, что я не могла вздохнуть.
– Боже мой, Коля! Витя!
Я обняла их по очереди, потом обоих вместе.
– Тебя нашли родители?
– Да! Правда, они не совсем родители и старые, но я теперь домашняя. У меня все хорошо.
– Какая ты теперь! Прелесть!
Я покрутилась перед ними, демонстрируя белый бант и голубое в белый горошек платье.
– У меня даже сандалики голубые под цвет платья. Так положено носить, – с гордостью сообщила я друзьям.
– А вы где теперь? В ремесленном? Вы такие взрослые, почти дяди. Ой, как я рада вас видеть. Расскажите про себя.
Сердитый голос деда позвал меня:
– Где ходишь? Я уж думал, ты потерялась!
– Папа, это мои старые друзья, – радостно сообщила я. – Они очень хорошие.
Разреши нам поговорить.
Дед критически оглядел ребят и резко сказал:
– Марш домой. Мать ждет.
Мне было неловко. Ребята смущенно переминались с ноги на ногу. Дед потащил меня за руку через весь торговый зал.
– Мы еще встретимся и поговорим. До свидания, – взволнованно кричала я друзьям.
А они махали мне и вытирали лица ладонями.
Когда мы зашли в другой отдел магазина, дед раздраженно сказал:
– Нечего водиться с бандитами.
– Они не бандиты. Они хорошие. Глаз и руку им поранила бомба. Вы же видели, они учатся в ремесленном, – защищала я мальчишек.
– Вздорное утверждение. Забудь про старую жизнь и все, что с ней связано, – жестко приказал дед.
– Я не буду вам говорить про них, но помнить буду, – хмуро засопела я.
Надо признаться, эти слова у меня вырвались совершенно случайно, неожиданно для меня. Я не хотела возражать и сама была удивлена своей смелости.
– Плохо, если ты осталась при ошибочном мнении, – сердито забурчал дед и пошел в кассу, а я осталась уныло глядеть на витрину.
И вдруг услышала, как приятный женский голос произнес:
– Много ли надо детдомовцу? Приласкай его, и он – твой. И каждое твое слово будет для него верным, главным. Ловятся, бедняги, на ласку хитрых, непорядочных людей. Доверчивы сверх всякой меры, патологически наивны – в этом их беда.
– Откуда вы знаете, что они детдомовские? – спросила я удивленно.
– У них на лицах написано, – ответила интеллигентная не только в одежде и речи, но и в движениях, старушка.
– И у меня написано? – с тревогой спросила я.
– Глаза у тебя грустные. Ничего, если сердце оттает, то и глаза заулыбаются.
– Они сейчас у меня собачьи?
– Откуда у тебя такое выражение?
– Один мой знакомый профессор в шутку так сказал. Только он теперь в другом городе. Я с его дочкой очень дружила.
– Помни хороших людей, девочка.
– Всю жизнь буду помнить, – уверенно ответила я и с благодарностью посмотрела на старушку. Она понимала нас, детдомовских.
Теперь, как только появлялась возможность, я прибегала к гастроному в надежде увидеть ребят. Но проходили дни, недели, а моя мечта не осуществлялась.
Неужели они не понимают, что я жду их? Наверно, их перевели учиться в другой город или послали работать. Если бы они остались здесь, то обязательно нашли бы меня! Эх, дед, зачем увел меня тогда?
ДЯДЯ КОЛЯ
На днях к нам должен приехать внучатый племянник деда. Он только что закончил служить в армии. Я представляла, что появится высокий красивый молодой человек в военной форме и военной фуражке: таких видела на плакатах в городе.
И вот он приехал. Вошел невысокого роста, крепкого сложения, темноволосый, голубоглазый молодой человек в светлой рубашке и черных брюках. Он мне сразу очень понравился, потому что излучал много радости. В нем было столько приветливости! Меня он схватил в охапку и сказал:
– Так вот какая моя маленькая племянница! Ты просто прелесть!
– Вы тоже прелесть, – ответила я, немного смущаясь.
Мои слова привели его в восторг и понравились деду. Мы не отходили друг от друга три дня. Дядя Коля носил меня на плечах, водил в кино и цирк. Можно было подумать, что он приехал ко мне, а не к деду. Потом дядя Коля оставил нам свое фото и уехал к своим родителям в деревню. А я подумала, что мой дед тоже прелесть. Его любят дети. У него талант такой. К примеру, в воскресенье в парке он заговорил трехлетнего мальчика, увел от матери и целый час малыш не отходил от него, пока мама не хватилась. Дядя Коля весь в деда.
Теперь, когда мне бывает очень грустно, я беру его фото и шепчу добрые слова. Иногда просто прячу карточку в карманчик платья и ухожу во двор, а возвращаюсь с хорошим настроением.
ФАБРИКА
Двор наш узкий и грязный, потому что нет асфальта. Напротив дома длинный ряд «заштопанных, латаных-перелатанных» сараев. В конце двора туалеты, к которым даже в сухую погоду неприятно подходить из-за запахов от ящиков с отбросами. В подвале дома размещается фабрика по изготовлению ваты. На ней работают глухонемые. Я попросила одного дядю с добрым лицом показать фабрику. Он взял меня за руку и открыл двойную железную дверь. Я сразу оглохла от страшного шума и скрежета огромных машин, но, заткнув пальцами уши, мужественно двинулась между рядами высоких грохочущих машин. Рабочий крепко держал меня за плечо и, улыбаясь, показывал рукой по очереди на тюки тряпок и ваты, на машины. В помещении было душно, воздух насыщен пылью и волокнами тканей. У меня зачесалось в носу, запершило в горле, и я попросилась назад. Когда мы поднялись наверх, грохот еще некоторое время стоял в ушах. Как же там работают бедные женщины? Разве тряпки на лице спасают их от пыли? А они еще и улыбались, глядя, как я изумленно таращу глаза.
Посещение фабрики произвело на меня неизгладимое впечатление. Вечером рассказала деду об экскурсии.
– И все-то ты нос суешь, куда не надо! Ты же девочка. Зачем как хулиган по подвалам лазаешь? – раздраженно сказал он.
– Так ведь интересно! Теперь я знаю, как делают вату, ту, что в одеяле. Только жалко рабочих. Папа, а людям, живущим на первом этаже, шум мешает жить? У них, наверное, пол дрожит?
– Да, вибрация на первом этаже сильная. Жильцы просят переселить их или фабрику закрыть, но пока у города нет такой возможности, – вздохнул дед.
После «экскурсии» на фабрику я подружилась с рабочим дядей Славой. Он один разгружает и загружает машину. Лицо, шея и руки у него всегда серые. Только глаза и белые зубы блестят. Как-то, отправив машину, он устало сел на лавочку и показал мне, что хочет пить. Я принесла компоту. Дядя Слава жадно пил, потом оторвался от кружки и, широко улыбнувшись, показал мне: «Здорово! Очень вкусно, спасибо!» А потом отвел меня подальше от окон, где жил начальник, и дал несколько ярких лоскутков вязаной ткани. «Из этого кукле платье сделаешь, а эти, вязаные, распустишь и будешь учиться вязать», – пояснил он мне.
Мы оба радуемся нашим встречам. Нам просто приятно оттого, что мы видим друг друга.
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
Очень шумно живут люди в третьем подъезде в коммунальных квартирах. Отчего чуть ли не ежедневно с воплями вылетают из этих коридоров дети и женщины? Каждый раз причины вроде бы были разные, а сценарий один. Двор оглашается отборной руганью, и я стараюсь поскорее укрыться в своем подъезде. В головы соседей летит не только мат, но и сковородки, стулья, керосинки.
А сегодня я увидела странную картину: Витькина мама носила по двору сына, завернутого во влажную простыню. Намаявшись, она садилась в тень сарая и причитала:
– Витенька, сыночек мой дорогой. Да что же с тобой приключилось? За что несчастье на мою голову? Любимый мой. Господи, спаси…
Ее душераздирающие крики зависали в воздухе дотемна. Оказывается, с Витей случился солнечный удар. Температура – сорок градусов. Обмяк бедный, в сознание не приходит. Бредит. Я удивлялась перемене в его матери. Вчера стегала сына ремнем за то, что он без разрешения стащил пирожок прямо со сковородки. Полдня неслись из квартиры обещания содрать кожу, убить сына, а сегодня белугой ревет только из-за того, что он заболел. Так сама же виновата. Вечно Витька гоняет по двору без панамки.
Я с любопытством смотрела на бледное лицо мальчика. Оно очень изменилось: вечно грязное и нагловатое, теперь выглядело, измученным, несчастным. Голова болталась на тонкой шее, и все время скатывалась с плеча матери. Безжизненные руки висели как веревки. Мне стало жалко и его, и мать. Значит, любит его? Как же можно любить и стегать да еще с позором, перед всеми? Не могу понять взрослых! За что била? Был бы сыт, не стащил бы этот злосчастный пирожок. Плохо сделал. Так ведь не от баловства. А может, у нее денег не хватает накормить сына?
Через два дня Витя ожил. Я вышла погулять. Спрятала под майку два куска хлеба и ожидаю Витьку. Когда он поравнялся с нашим коридором, я тихо позвала его. Витя небрежно спросил:
– Какого черта?
Я протянула ему кусок хлеба:
– Давай вместе есть.
Он обалдело глянул на меня и отступил на несколько шагов. Вдруг выражение его лица сменилось на злое, и он кинулся на меня с кулаками. Я метнулась наверх. Он догнал и неожиданной подножкой спустил меня с лестницы. Я сидела в пыли и думала о том, что скажет Оля, увидев грязное платье. Витька умчался. Ко мне подбежала немая тетя Маня и, размахивая кулаками в сторону моего обидчика, зажестикулировала:
– Сейчас его мамаше скажу…
Я перебила ее, показав, что сама упала. Оступилась. Она удивленно и неодобрительно покачала головой, объясняя: «Наказывать надо хулиганов, чтобы неповадно было».
Дома обмыла рану с мылом и попросила извинение за грязное платье. Конечно, мне было больно, но виду не показала. Оля растерянно смотрела, как я спокойно промокаю бинтом кровь. Она от испуга даже не спросила, что со мной случилось, только за зеленкой кинулась.
А я небрежно сказала:
– Заживет как на собаке. Папе не говорите.
И все было бы хорошо. Только никак я не могла понять, за что Витька на меня накинулся? Я же хотела ему помочь. «Каждый детдомовец спасибо сказал бы за лишний кусок хлеба, да еще сдобного. Странные эти домашние, доброты не понимают. Чем его разозлила?» – мучительно соображала я. Но ничего не приходило в голову.
Вечером того же дня я совершала обычный обход знакомой территории. Смотрю: Витька изображает на тротуаре и стенах домов единственное слово, которое научился писать. Я стала ходить за ним и мелом исправлять первую букву. Одной черточкой матерное слово превращала в нормальное. Я была очень довольна собой, ведь делала доброе дело в воспитании мальчишки и в «украшении» улицы!
Витька, застав меня за этим занятием, удивленно сказал:
– Видел дур, но такую – в первый раз.
– От дурака слышу, – парировала я обиженно.
– А ты дура в квадрате.
– А ты – в кубе, – быстрехонько нашлась я.
Витька растерянно замолчал.
И что плохого в том, что дурак в квадрате или в кубе! Почему так говорят, когда ругаются? Нарисовала мальчика и обвела квадратом. Потом изобразила ребенка в кубике. Ничего особенного. Первый вроде как в окно глядит, а второй – будто находится в прозрачном, стеклянном ящике, как рыба в большом аквариуме.
Витька стоял рядом и разглядывал мои рисунки.
– Что это? – спросил он.
– Эта фигура – квадрат. А эта – куб.
– Тебе так в школе объясняли?
– Нет, еще раньше.
– В детсаду?
Я промолчала.
– Я тоже на следующее лето пойду в школу, – грустно сказал Витя.
Тут его позвали друзья, и он с радостным криком умчался.
КОСТЯ
Во дворе появился новый мальчик. Он москвич, приехал в гости к Бубновым. Костя мне ровесник, но по поведению кажется более взрослым. В нем присутствует какая-то непонятная уверенность в себе. Он всегда знает, чего хочет и добивается своего. В нашем дворе единственный велосипед – у Владика, и на нем катаются все с разрешения его родителей, но недолго и недалеко. На этот раз очередь была Вити, но Костя твердо сказал:
– Я вне очереди, потому что гость вашего двора.
Возразить было нечего. Костя забрал велосипед, пропал на целый день и появился во дворе только утром. На лице не было ни волнения, ни раскаяния. Постучал в дверь квартиры Владика и, когда мама вышла, голосом, не терпящим возражений, как взрослый сказал:
– Прошу извинить, обстоятельства выше меня. Спасибо за велосипед. До свидания.
Мама Владика от командирского тона оторопела и, ничего не ответив, покатила велосипед в коридор. Костя произносил вежливые слова решительно, как будто давил ими. Он заканчивал разговор. Он ставил точку. Я представила себе, как извиняюсь за что-то, потом выслушиваю град обвинений, кучу нотаций и со слезами, с еще большим чувством вины ухожу домой. Он же, казалось, вины никогда не чувствовал. И чужие заботы его не трогали. «Это ваши проблемы», – говорил он. В любой игре он становился лидером, действуя напористо, резко. Иногда мы даже не успевали сообразить, как он уже командовал нами. Ребята пытались не брать его в игру, ставили своих ведущих, но проходило немного времени и опять Костя был среди нас, во главе нас и устанавливал свои правила игры. Мы злились, но ничего поделать не могли.
– Семья его так воспитывает, чтобы он тоже генералом стал. Видишь, сколько уже сейчас в нем твердости, умения говорить с людьми. Он не позволяет другим высказываться, хотя вроде бы рот не «затыкает» грубыми словами, культурно ведет себя. Ох, боюсь, из него такой «хлыщ» вырастет, что тяжко от него будет и солдатам, и его родным. У него нет преград – жалости, доброты. Только его желания важны ему, – сказала как-то тетя Вера подругам, сидящим у дома на скамейке.
А в последний день пребывания Кости я наблюдала странную сцену. Моя подруга Нина позвала его собирать ягоды в овраге, что за три улицы от нас. С присущей ей ребяческой манерой она хлопнула Костю по плечу. Он удивился фамильярному обращению, но стерпел. А дальше было еще интересней. Нинка решительно обняла Костю за плечи и, о чем-то восторженно рассказывая, потащила за собой. Такой естественно-растерянной, обескураженной физиономии, я еще ни у кого не видела! По лицу было заметно, как усиленно думал Костя. Оттолкнуть девчонку? Сказать что-либо презрительно-унизительное? Он прокручивал в голове варианты и все время оглядывался. Наверное, в данный момент для него было главным, чтобы его никто не видел в таком неожиданном, непонятном положении. Лицо Кости покраснело от смущения, но руки Нины он не сбросил. А она не замечала борьбы его чувств. Ей все равно с кем проводить время, лишь бы не быть одной. А вечером он сам пришел играть к ней домой. Почему? Чем она ему интересна? Меня это задело. Непонимание злило.
САПОЖНИК
Бегу к знакомому сапожнику. Он живет на краю города. Руки у него золотые и нрав добрый. Я с удовольствием хожу к нему. Сапожник – глухонемой. Я немного понимаю язык жестов, и он рад этому. Когда я первый раз удивилась его ценам, он объяснил: «Ко мне приходят, в основном, из ближайшего села. А откуда у деревенских деньги? Трудодни да палочки получают в колхозе. Чем их отоварят и когда – один бог знает. А продукты еще продать надо, чтобы макароны, обнову, чай купить».
Если я чего-то не понимала, сапожник старательно выводил на клочке бумаги крупными печатными буквами слова, объясняющие незнакомый мне жест. Почему многие считают его нелюдимым? Когда я прихожу к нему, улыбка разглаживает морщинки на бронзовом от загара лице. У глаз то появляются, то исчезают светлые лучики незагорелой кожи. Я как-то ему показала, что он человек «во!» и что руки у него растут как надо, так он мне не только починил обувь, а еще почистил цветными кремами. Я смутилась, стала думать, сколько надо еще доплатить, ведь лишних денег у меня не было, под обрез давали. Но он понял мое волнение, похлопал по плечу и показал: «Я для своего и твоего удовольствия сделал»…
Дядя Ваня (точнее сказать Джованни) встретил меня как всегда приветливо. Мы сели на крыльце. Он принялся показывать мне различные образцы кожи и объяснять какие, где лучше использовать. «Когда пальчики окрепнут, научу тебя своему ремеслу. В жизни пригодится», – серьезно, но ласково «сказал» он. Я утвердительно кивнула, забрала ботинки и попрощалась. По дороге несколько раз оглядывалась и махала рукой до тех пор, пока одинокая худая фигура совсем не скрылась из виду.
КУКЛЫ
Дядя Слава такой большой! Я задираю голову, чтобы увидеть его лицо. Один раз он посадил меня на широкую ладонь и поднял. Наши глаза оказались на одном уровне. Я провела ладошкой по его красиво изогнутым черным бровям, по кудрявым смоляным в серой пыли и вате волосам. Он улыбнулся, приподнял меня над головой, а потом стремительно опустил на землю. Я почувствовала себя совсем маленькой.
Каждый раз, увидев меня, дядя Слава с улыбкой достает из кармана красивый лоскуток и показывает:
– Кукле на платье.
Но куклы у меня нет. Оля купила целлулоидную (пластмассовую) уточку, поставила на книжную полку и не дает играть. А зачем тогда покупала? А может, и правда, научиться вязать? Попросила у Оли спицы. Она показала, как делать петли и предложила вязать носки. Я быстро освоила лицевые и изнаночные петли, но когда дело дошло до вязания сразу на четырех спицах, у меня перестало получаться. Петли соскакивали то с одной, то с другой спицы. Не выходило держать четыре спицы и одновременно пятой делать новые петли. Оля сердилась на мою неловкость. А я злилась на себя и на нее.
– Не могу я за один день научиться вязать. Буквы в школе каждый день пишем, а они все кривые и кривые, – бурчала я, пригнув голову.
– Руки у тебя кривые, – сказала Оля и ушла во двор.
Я еще немного «поковырялась», потом, окончательно запутавшись в «утерянных» петлях, бросила спицы на стол. Но яркие лоскутки все время напоминали о словах дяди Славы, и я решила попробовать сшить куклу. Самым трудным, оказалось, вставлять нитку в иголку. Нитки я взяла тонкие, а иголку с самым большим ушком. Долго целилась, но кончик нитки все время изгибался и не хотел пролезать в отверстие. Руки устали, и я все чаще и чаще промахивалась. Тогда я воткнула иголку в разделочную кухонную доску. Теперь иголка не дрожала, и я достаточно быстро вдела нитку в ушко. Шить оказалось просто. Свернула лоскуток трубочкой и прошила вдоль края крупными стежками. Рука готова. С головой еще проще. В белую тряпочку положила кусочек ваты, а края материи сшила в месте, там, где должна быть шея. В общем, пока Оля прослушала в доме напротив скандальную историю о разводе какой-то семьи, я сшила себе мягкую куклу, нарисовала ей лицо и обрядила по всем правилам в брюки, рубашку и шапочку. На следующий день я принялась шить новую куклу. Подружку. Но Оля возмутилась:
– Хватит с тебя одной.
Ну и ладно, обойдется без подружки. Сошью ему друга-кота. Его-то мне не запрещали делать. Коту пришила глаза-пуговицы и раскрасила полосками тело. Ушки-треугольники получились великолепные! Но усы из ниток никак не хотели торчать и уныло опускались вниз, придавая коту грустно-смешной вид. Увидев мое очередное «творение», Оля зашумела:
– Хватит фабрику устраивать. Не квартира, а склад хлама!
Я послушно положила иголку на место.
СТРАННЫЙ ТЕАТР
Проснулась. На улице ослепительно светло. Хрустальный воздух золотится в лучах восходящего солнца. Вдали вчерашняя вечерняя сталь реки сменилась ярко голубой лентой. В низинах туман белыми островками покрывает водную гладь, размывая линию берега.
Пока Оля спит, мне захотелось прогуляться по парку. Потихоньку выбралась из квартиры. Иду, а утреннее солнце движется со мной, мелькая между ветвями, пересчитывая стволы. Многие деревья сильно наклонены в одну сторону, и только кряжистые дубы стоят прямо и гордо, раскинув мощные ветви. Новая волна одуванчиков заполонила газоны. Неделя дождей разбросала по влажной земле шарики дождевиков. Солнечные зайчики сделали асфальт пятнистым.
Добралась до берега грязной речушки. Дед называет ее помойкой. Наклонилась над ромашкой. Осторожно поймала пчелу за крылышки. Она извивается полосатым брюшком, пытается ужалить меня. Травинкой перебираю лапки насекомого. Где оно берет силы так часто махать крылышками? Я раз двадцать подниму руки, и больше нет желания продолжать зарядку. Было бы здорово иметь способности разных животных, птиц, насекомых!
И почему человек сразу не рождается умным? Собака заболеет, так ее никто не учит, а она знает, какую ей траву надо съесть, чтобы вылечиться. Один раз видела, как бедняжке судорогой сводило живот. Она ползком добралась до забора и принялась обнюхивать бурьян. Наконец выбрала травку, пожевала и тут же уснула. А наутро уже весело бегала по заднему двору детдома. А я, если заболею, то не знаю, как лечиться. Я глупее собаки? Это же неправильно! Я должна знать все, что умеют животные, а потом уже учить свое – человеческое.
Подошла к небольшому красиво раскрашенному деревянному летнему домику. Около крыльца толпились дети постарше меня, а в тени, на траве, сидели взрослые. Вышел молодой мужчина с очень выразительным живым лицом. Черные кудрявые волосы, усы, борода, черные крупные чуть навыкате глаза. Лицо его не столько приветливое, сколько внимательное. Не успела приблизиться к нему, как вместе с толпой оказалась в большой светлой комнате. Когда взрослые сели на деревянные лавки, свободных мест не осталось. Я пристроилась на полу у деревянного помоста.
Задернули шторы. Раздалась тихая музыка. Двое детей вышли на сцену и стали молча, одними движениями, что-то изображать. Я сначала никак не могла сообразить, что там происходит. Но в какой-то момент, по тревожно нарастающей музыке и резким движениям детей, играющих на сцене, вдруг почувствовала трагедию. Они ссорились, что-то друг другу доказывали, чего-то требовали. И, хотя дети были одеты в одинаковую, обтягивающую тело черную одежду, я поняла, что это мужчина и женщина, что они взрослые и, наверное, – семья.
Передо мной проходили люди, с разными, в основном, грустными историями жизни. Лица, руки, движения тел артистов были выразительны, каждый их жест проходил через мое сердце. Мне казалось, что дети понимали и переживали беды взрослых в сто раз сильнее самих взрослых. Они умирали, ссорясь во время развода. Их чувства погибали вместе с ними или поднимались на высоту рая в счастливые моменты любви, сострадания. Я чувствовала, будто меня касается рука любящего, страдающего, молящего о прощении человека; видела, как женщина негодующе, возмущенно отталкивает партнера, не веря, не принимая, не прощая.
На сцене черные как тени силуэты. Он, она и несчастье. Он, она и любовь. Музыка звучит то очень тихо, то чуть громче – в зависимости от действий, происходящих на сцене, но напряженный трагизм ее не исчезает. Он берет мое сердце в тиски и медленно, мягко отпускает, жалея струны моей души. Но я все равно не успеваю полностью расслабиться от одной истории к другой, поэтому сжимаюсь и сжимаюсь в пружину. Глянула в зал. Женщины (их было большинство) плакали. Пружина лопнула. Я тоже залилась слезами и тихонько, на коленках, выползла из домика, чтобы выплакать боль несчастных семей и свою боль.
Когда все разошлись, ко мне подошел руководитель.
– Я приметил тебя. Можешь рассказать свои впечатления?
– Могу, – тихо ответила я.
Он внимательно слушал и что-то очень быстро записывал.
– Ты плачешь, когда звучит похоронная музыка?
– Да.
– Ты провожала кого-нибудь из родных в последний путь?
– Нет. Я детдомовская.
– Значит, раненая. Послушай, так я записал твой рассказ?
«Дети играли трагедии взрослых. Они просили взрослых понять их, вспомнить себя, вернуться к своим сердцам. И, глядя на них, взрослые в зале, наверное, увидели свою жизнь иначе. Может, они задумались на миг, как тяжело детям видеть своих родных в их ничтожестве, в слабостях? Ноют сердца и страдают их души. Детям хочется гордиться родителями, любить радостно, а не с тоской и жалостью. Взрослый мир – мир безрадостной суеты, ежедневных забот. Взрослые! Останьтесь немного детьми, вспомните, как нужны нам и вам яркие минуты, всплески радости и просто ежедневное тепло, добрые взгляды, поддержка. Как больно нам от резких, грубых слов, звучащих из-за мелочей. Остановитесь, оглянитесь вокруг! Мы любим вас. Я бы не хотела еще раз попасть в ваш театр. Страшно тяжело, когда твоя боль складывается с болью других. Впечатление ничем невозможно смягчить, ослабить. И носить в себе слишком тяжело. Спасительные слезы – лекарство Всевышнего. Только они всегда со мной».