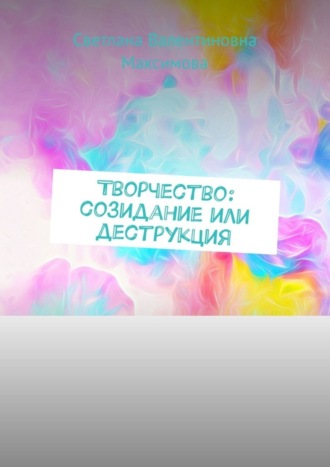
Полная версия
Творчество: созидание или деструкция
Н. Бердяев трактовал творчество как опредмечивание и объективацию. Это можно пояснить, разграничив понятия творчества и творческого акта. Творческий акт – опредмечивание родившегося в голове творца образа, идеи: «Опредмеченные идеи и образы отражают уникальные, неповторимые свойства творца, его «душу»… Объективация начинается, когда объективированная сущность личности становится объектом для других людей… Именно эта объективированная сущность является единственным критерием, благодаря которому личность определяют как творческую… В объективации реализуется важнейшая потребность личности – потребность общения и любви» (17). Творчество же понимается : «Творчество для меня не столько оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полет в бесконечность; не объективация, а трансцендирование… В творческом опыте раскрывается, что «я», субъект, первичнее и выше, чем «не-я», объект. И вместе с тем творчество противоположно эгоцентризму, оно есть забвение о себе, устремленность к тому, что выше меня. Творческий опыт не есть рефлекс над собственным несовершенством, это – обращенность к преображению мира, к новому небу и новой земле, которые должен уготовлять человек, Творец одинок и творчество носит не коллективно-общий, а индивидуально-личный характер. Творчество есть менее всего поглощенность собой, оно всегда есть . Поглощенность собой подавляет, выход из себя освобождает …Творческий акт человека и возникновение новизны в мире не может быть поняты из замкнутой системы бытия. Творчество возможно лишь Свобода вкоренена не в бытии, а в «ничто», свобода безосновна, ничем не определяема, находится вне каузальных отношений, которым подчинено бытие и без которого нельзя мыслить бытия …творчество есть творчество из ничего, из свободы… Творчество неотрывно от свободы.. Из необходимости рождается эволюция, творчество рождается из свободы (8). Бердяев провозгласил «персоналистическую революцию». – означает свержение власти объективации, разрушение природной необходимости, освобождение субъектов-личностей, прорыв к иному духовному миру. Преодоление объективации связывается Бердяевым не столько со спасением, сколько с как «обнаружением избыточной любви человека к Богу», ответом его «на Божий зов, на Божье ожидание». Путь преодоления пагубной привязанности человека к миру, власти объективации – не в покаянии, которое погружает человека еще глубже в собственную греховность, а в переходе на гораздо более высокий уровень – уровень «Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. Именно в творческом акте человек реализует свою свободу, присущую ему изначально, «свободу от «мира»» (17). как порождение идеи, образа, выход за границы «Я» выход из себя при допущении свободы, не детерминированной бытием, не выводимой из бытия. «Персоналистическая революция», творчеством творчества.
С одной стороны творчество обращено к людям, но с другой – оно есть способ подняться над обществом, преодолеть социальные рамки: «Чтобы жить достойно и не быть приниженным и раздавленным мировой необходимостью, социальной обыденностью, необходимо в творческом подъеме выйти из имманентного круга «действительности», необходимо вызвать образ, вообразить иной мир, новый по сравнению с этой мировой действительностью (новое небо и новую землю)» (17).
В противоположность марксизму, понимающему творчество как приспособление, Бердяев подчеркивает, по сути, , присущий творчеству: «В известном смысле можно было бы сказать, что любовь к творчеству есть нелюбовь к „миру“, невозможности оставаться в границах этого мира.» (15). «Творческие ценности не нужны для спасения от гибели, могут быть даже вредны – в страшный час смерти лучше забыть о них» (15). неадаптивный характер
В творчестве необходимо , : «Для творческой философии истина не есть пассивное отражение, для нее истина есть активное осмысливание. Достижение истины предполагает творческую активность духа, его противление разрыву субъекта и объекта и вражде между творчеством и бытием» (17). И, наконец, для творчества человека важна его , в отличие от творчества природы: «Творческий акт имманентно присущ лишь лицу, личности как свободной и самостоятельной мощи». (15) активное начало борьба, преодоление личность как субъект
Творческий акт связывается с : «Невозможна творческая мысль, если нет сферы проблематического, нет мучительных усилий разрешить новые вопросы, нет искания истины, которая не падает сверху в готовом и застывшем виде, нет борений духа» (15). «Творческий акт – всегда освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы» (16). проблематичностью внутреннего мира, стремлением разрешив внутренние противоречия, найти истину
Бердяев говорит о творчестве как постоянном пути духовных исканий, присущему русской ментальности: «неосуществленное вовне бытие всегда было той томившей русскую душу энергией, которая стремилась воплотиться в волю, действие, реальность, вырваться за пределы отдельного человеческого существа, воссоединившись с космической гармонией. Стремление к выходу в пространство, где может произойти, наконец, желанное самоосуществление, где воссоединяется дух, душа и тело, чувство и разум, мечта и реальность, где возникает целостность индивидуальности и всеобщности» (191).
Творчество трактуется Бердяевым как путь гармонизации бытия. Зло проистекает из несотворенной свободы. Противоборство зла и творчества составляют сущность новой религиозной эпохи – «эпохи третьего откровения», особая миссия в наступлении которой принадлежит России с ее особым мистическим, интуитивным складом человеческой души.
Н. О. Лосский связывает творчество с личностным познанием, то есть когда субъект активно направляет на объект ряд целевых умственных актов – осознания, внимания, дифференциации и д.р. «Будучи сверхпространственным и сверхвременным, человеческое я есть идеальная сущность и может быть обозначена» как «субстанциональный деятель». «Субстанциональные деятели творят не только познавательные акты, но и все события, все процессы, другими словами все реальное бытие: напев мелодий, переживание, вызванное чувствами и желаниями, – это проявление некоторого я» (63).
Философские идеи . отличались стремлением отечественных ученых объяснить мир с точки зрения нравственных, общечеловеческих эталонов поведения, а не с помощью рационализма, т.е. «обобщения высшего порядка тяготели к религиозно-нравственным, а не логическим постулатам» (191). В работе Е. А. Колесниковой, посвященной анализу философских построений А. Потебни и его последователей, резюмируется: «Не отрицая того, что творческое мышление нельзя ограничить работой ума, а творчество неотделимо от самобытной человеческой личности и от неудержимого стремления человека к самоопределению через проявление своей экзистенции, Овсянико-Куликовский, Райнов и Потебня неоднократно подчеркивали, что людям свойственно, стремясь к самоопределению и к познанию интеллектуально- нравственной истины, вносить как процесс, так и в результат творческого мышления элемент самобытности, элемент своего понимания и переосмысления природы» (77). русских психологов конца 19 – начала 20 в.в
Творчество понимается этими учеными как « содержанием которого являются социально-культурные факты, переосмысленные человеком с позиций его индивидуальных особенностей» (77). самореализации внутреннего мира художника,
По мнению , «Творчество основывается на процессе присвоения (а на определенном этапе развития человеческой личности и создания) культурных ценностей и связывается со способностью человека придавать своим мыслям знаковую форму. Так обычное стремление к самовыражению с помощью слова постепенно приводит к появлению „человека нравственного“, основным структурным элементом психики которого является Совесть» (146). Слово рассматривается им как основа и первая форма творчества. Он считает, что творчество порождается а грамматическая категория является средством этого познания и передачи его результатов другим людям, поэтому понять механизмы творчества можно посредством изучения языка. А. А. Потебни стремлением к познанию истины,
Потебня проводил тесную связь между творчеством и личностью художника, его «Я». По его мнению, чем значительнее произведение искусства, тем оно автобиографичнее, но оно не в буквальном смысле отображает его биографию, а выражает внутренний мир художника. Произведение является средством самовыражения. Потебня подчеркивал, что в творчестве . слиты воедино социальность и индивидуальность также как и слово заключает в себе понятие и внутренний смысл
Последователь А. А. Потебни, продолжает линию анализа творчества как формы мышления, познания действительности, первоисточником которого является язык. Он истолковывает искусство – искусство в широком смысле слова. Психологическую суть науки и искусства, поэзии и прозы в том, что «наука и заключенная в ней философия есть познание и разработка идеи бесконечного в его космических формах, а искусство и заключенная в нем идеология есть познание и разработка идеи бесконечного в его человеческом выражении» (77). Д. Н. Овсянико-Куликовский как сначала умственную деятельность для себя, а затем объективирование ее результатов для других
Вслед за Потебней Овсянико-Куликовский рассматривал . Творчество интерпретировалось не только как средство познания, но и средство коммуникации, передачи своих мыслей, переживаний другим людям. Соответственно восприятие произведения, интерпретация того, что хотел передать художник, также требует творческих усилий. понимание как творческий процесс
считал, что нужно изучать не механизмы творчества, а . По его мнению, творчество есть там, где люди устанавливают ценности, рассуждают, а не следуют автоматизмам. Творчество он понимал как достижение , субстанциональное изменение сознания, которое приводит к появлению в сознании нового явления из неопределенной материи. Он обосновал идею общности природы различных видов творчества, заложив основы эврологии – всеобщей теории творчества. Б. Райнов ценности единства сознания
Таким образом, можно заключить, что философская мысль развивается в направлении . от божественной или мистической сущности творения к личности человека как источнику творческих сил; от рядоположенности человеческого творчества с «творчеством» природы – к представлению о том, что творчество является сущностно человеческой категорией; от качества, присущего только избранным, – к общеродовой способности человека; от противопоставления научного и художественного творчества – к их единому назначению, а также к выделению творчества как созидания себя («самоделания»), от придания творчеству утилитарного значения – до понимания творчества как смысла бытия. Идея творчества упрочняет свои позиции в философском знании от всплеска ценности творческой деятельности эстетической направленности и стремления реализовать свои творческие способности в эпоху возрождения к обоснованию творческого, субъектного начала интеллектуальной деятельности в немецкой классической философии, экзистенционалистскому смыслу творчества как созидания себя и собственной жизни, постижения и полагания истины, к пониманию творчества как космологического принципа мира и человека, сущности бытия и способа гармонизации мира русскими философами
В качестве источника творчества полагается «мистический дух» (Платон), «божья искра» (романтики, средневековая философия), удивление (Аристотель), активное сознание, внутренняя противоречивость (И. Кант), активность «Я», стремление субъекта к расширению собственных границ, противоречия, возникающие в процессе познания (Гегель), стремление к истине (М. Хайдеггер), общение, диалог человека с миром (Г. С. Батищев, М. М. Бахтин), видение проблем, способность к проблематизации внутреннего мира (Г. С. Батищев, Н. Бердяев), стремление души к слиянию с миром (П. Флоренский), личность как активный субъект (Н. Бердяев, А. Ф. Лосский), томящая душу неосуществленная энергия (Н. Бердяев), «самодавлеющие стремления» (Н. О. Лосский), стремление к самоопределению, к самореализации внутреннего мира (А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Б. Райнов).
Смысл творчества видится философами в решении практических задач (Аристотель), в необходимости самореализации заложенных в человеке потенций (Аристотель, Спиноза), воспевании красоты (романтики), в познании (Платон, Кант, Гегель), в соединении с абсолютным духом (Шеллинг), самодвижении «Я» (И. Фихте), полагании истины (М. Хайдеггер), преодолении действительности, гармонизации мира (К. Ясперс, Ж-П. Сартр, Н. Абаньяно, А. Шопенгауэр, А. Камю), преображение личности человека (Ф. Ницше), испытание себя, гармонизация мира (А. Камю), «восхождении к всеединству (П. Флоренский), в полагании смысла, в борьбе со злом (Н. Бердяев), осуществлении смысла (М. М. Бахтин), познании, самореализации внутреннего мира, понимании, нравственном развитии личности (А. А. Потебня), изживании избыточной энергии (Д. Н. Овсянико-Куликовский, И. Оршанский),.
Опираясь на анализ философской литературы, обозначим онтологические основания, принимаемые нами в исследовании:
– творчество как высшая ценность европейской культуры, онтологическая категория
– присутствие в творчестве непознаваемого момента (божественного откровения или как сказали бы атеисты – случайности) и познаваемого (психологические закономерности), последние, мы полагаем, и является предметом психологической науки
– творческость, способность к творчеству является общеродовым качеством человека, то есть присуща всем, но развита может быть в разной степени, психофизиологические особенности и влияние общества являются лишь предпосылками развития этой способности, определяющим же моментом является собственная, инициативная активность субъекта, «непредопределенность воли» (А. Бергсон)
– творчество человека отличается от «творчества» природы активным личностным, субъектным началом
– творчество рождается из «противоречий внутри субъекта» (Кант), «проблематизации собственного мира» (Г. С. Батищев) и оно трансцендентно и неадаптивно, то есть оно есть выход за границы, «преодоление» (Н. Абаньяно), «борьба» (Н. Бердяев), «Бунт» (Ж-П. Сартр), «полет в бесконечность» (Н. Бердяев)
– творчество рождается из свободы и ведет к свободе
– творческая самореализация, раскрытие творческого потенциала – цель, благо и залог успешного и здорового существования человека в мире (Аристотель, Спиноза, К. Маркс, А. Маслоу, Э. Фромм), смысл жизни человека (Н. Бердяев).
– Творчество является средством и условием развития личности, ее нравственности и духовности, осмысленности (экзистенциализм, философия Просвещения, русская философия)
– Творчество вырастает из диалога с миром, с другими, и направленно к другим, но оно не обусловлено социумом, для творчества необходима свобода от социальных установок (Г. С. Батищев, Н. Бердяев и др.)
– Функции творчества: познание, самоопределение, самовыражение, преобразование себя и мира
– Творчество как принцип мира, «синоним жизни», источник и смысл жизни, противостояние злу; борьба творчества со злом – сущность наступающей новой эпохи.
Целостная психологическая концепция творчества должна воспроизводить в себе сущностные характеристики философской интерпретации этого феномена.
Глава 2.Проблема творчества в психологии
Обозначенная нами во введении проблема обеспечения педагогических условий творческой реализации школьников предполагает решение . Обратимся к анализу психологических исследований творчества с точки зрения поставленной проблемы. Можно выделить три направления в изучении психологии творчества в зависимости от того, какая сторона творчества является предметом исследования: 1) (представители описательной психологии: Э. Генникен, Д. Н. Овсянико-Куликовский, С. О. Грузенберг, И. И. Лапшин, психоанализ, а также: Ф. Баррон, Симонтон, В. Л. Дранков, В. Н. Мясищев, Р. О. Якобсон, Б. Г. Ананьев, Г. Уоллес, Р. Вудвортс); 2) (В. Вундт, Л. С. Выготский, Е. Бассин, А. П. Огурцов, представители искусствоведческой психологии и эмпирической эстетики (В.М.Петров и др.)); 3) (представители ассоционизма, Вюрцбурской школы, гештальтпсихологии, рефлексивной психологии, авторы психофизиологических трактовок творчества). вопроса об источниках и закономерностях развития творческой активности в онтогенезе личность творца творческий продукт творческий процесс
– В рамках первого подхода исторически можно проследить три этапа становления научных представлений исследователей о личности как о субъекте творчества.
Психология творчества начиналась с феноменологических описаний выдающихся людей. Но непроработанность в психологии понятия «личность» проявилась в том, что описание личности творца сводилось к биографическим данным (Гайллард, Х. Гарднер, П. Махотка, Г. Уоллес, Р. Вудвортс), особенностям характера, темперамента и т. д. Эти описания были настолько разнообразны, что выделить какое-то общее основание, способствующее творчеству, оказалось невозможным. Первый этап. личности
поиска личностных факторов творчества исследователи исходили из определенного понимания личности – как некоей совокупности качеств («коллекционерский подход» – А. В. Петровский), и их исследовательская задача сводилась к выявлению качеств, характерных для творчески одаренных людей. Примером может служить эклектическая модель творчества (Вишнякова Н. Ф.). Однако в экспериментах было показано, что они отличаются скорее разнообразием и противоречивостью этих качеств, нежели каким-либо определенным паттерном (М. Чихуентмихалин, Л. Б. Ермолаева-Томина). На следующем этапе
Причинно-следственные отношения между творческой продуктивностью и особенностями личности зачастую устанавливались только на основе корреляции между ними, что приводило к произвольности приписывания одной из этих переменных статус причины, а другой статус следствия. Выделяемые исследователями черты личности творческих людей рассматривались как побудители к творческой деятельности.
Например, считается, что источником творчества являются такие черты личности как «открытость опыту, спонтанность и экспрессивность» (К. Роджерс), «предпочтение новизны, преобладание внутренней мотивации, широкий круг интересов, открытость новому опыту, способности к широкой категоризации и идеосинкразии» (К. Мартиндейл), «большая физическая энергия, но частое пребывание в состоянии покоя и отдыха, суровость и наивность, игривость и дисциплинированость, чередование реальности и фантазии, скромность и гордость, бунтарство и консерваторство, открытость и чувствительность» (М. Чихуентмихалин), «самодисциплина, персеверативность в условиях фрустрации, независимость суждений, терпимость к неопределенности, высокая автономность, отсутствие половых стереотипов, интернальный локус контроля, склонность к риску, стремление к совершенствованию» (Т. Амабайл и М. Коллинз), «шизотемия, радикализм, интроверсия, доминирование» (З. Кеттелл), «терпимость к двусмыслице» (Ф. Бэррон), «высокая сила «Я»» (Р. Кеттелл,), «чувство материала, настойчивость, постоянный поиск, развитая способность к ярким представлению» (А. Л. Готсдинер), «оригинальность, гибкость мышления» (П. Торренс), «разнообразие психологических черт, слабая социализация, независимость, комплексность» (Д. МакКеннон), «способность преодолеть финальную заданность» (А. Адлер), «повышенный интерес к новому во внутреннем мире» (Л. В. Колесов, Е. Н. Соколов), «большая сенсорная открытость, большая чувствительность» (В. С. Ротенберг), «жажда созидания, единство чувств, интеллекта и воли, сильная воля, вера в призвание, единство чувств, интеллекта и воли, эмоциональность, надличная жизнь» (Р.Г Эфендиева), «чувствительность к побочным продуктам деятельности» (Я. А. Пономарев), «интуитивность, фантазия (интеллектуальные), стремление к творчеству, стремление к новизне (мотивационные), гибкость, оригинальность, критичность, инверсивность (склонность к переходам от одного полюса состояния к другому), «ребячливость» (характерологические) (В. Р. Пятрулис), а также независимость суждений, терпимость к неопределенности, противоречивость и т. д. Между тем, правомерно и альтернативное предположение, состоящее в том, что не столько качества личности являются причиной высокой творческой продуктивности, сколько, напротив, Замечено, что традиционно изучается влияние личностных черт на продуктивность деятельности человека, но не изучается вопрос о влиянии творческой деятельности человека на его личность (Л. Я. Дорфман, Г. В. Ковалева). включенность человека в творческую деятельность порождает определенные качества его личности.
поисков исследователи пытались выделить «интегральную личностную характеристику» или системообразующий фактор, обусловливающий высокие творческие результаты. В качестве таковых были предложены «креативность» как генеральная черта личности (К. Мартиндейл), «плодотворная ориентация личности как способ отношений во всех сферах человеческого опыта, человеческая способность использовать свои силы и реализовать заложенную в человеке возможности, восприятие человеком себя как воплощения своих сил и как «Творца»» (Э. Фромм), «амбивалентность личности» (А. П. Огурцов), «ведущий структурный уровень организации психологического механизма человека», «способность действовать в уме» (Я. А. Пономарев), «эстетическое отношение к действительности» (А. А. Мелик-Пашаев), «интеллектуальная активность» (Д. Б. Богоявленская), «активность как генеральный фактор одаренности (Н. С. Лейтес), «самопродуцирующаяся установка» (Натадзе, В. Л. Райков), «установка на творческую деятельность» (Э. Р. Габидулина, Григорян К. К., Никифорова О. И.), «художественное Я», «эмпатия как универсальная творческая способность» (Ф. В. Басин), общая направленность личности, ее «сверхзадача» (А. Л. Гройсман), «Интегральное качество – потребность-способность к труду – наличие в деятельности человека 5-ти признаков субъекта труда (потребность в труде, предвосхищение результата, сознание необходимости достижения результата, владение внешними и внутренними средствами деятельности, ориентировка в межчеловеческих отношениях)» (В. И. Тютюнник), «Достойная цель» (Г. Альтшуллер), «принятие решения» (Л. Л. Гурова), «направленность на творчество» (Андреева Т. В.), «творческий потенциал» (П. Ф. Кравчук, И. Б. Гайдукова), «проблемность как основной структурный компонент одаренности» (Н. Н. Поддъяков), «личностная направленность художника» (Д. Ратнер-Кирнос), «творческо-художественная направленность» В. Е. Семенов), «творчески-эстетическая детерминированная личность» (В. Г. Ражников), «творческое ядро» (Джордан Айян), «способность преодолевать стереотипы и широта поля ассоциаций» (С. Медник). Однако, как бы ни назвалась эта личностная характеристика, ни в одной из концепций не раскрывался ее сущность – личностных образований, детерминирующих творчество. Поэтому невозможно понять, почему одни люди обладают большими творческими способностями, другие – меньшими, какую роль в формировании творческих способностей играет личность. На третьем этапе генез
2. Попытки объективно подойти к изучению творчества обратились призывами изучать творческой деятельности – художественные произведения, закономерности развития научных представлений и т. д. Например, рассматривает творчество как познание мира посредством грамматических категорий. Поэтому понять механизмы творчества можно, изучая язык. «Сверхзадачу лингвистической поэтики Потебни», как пишет Колесникова, – «можно определить как стремление сформировать через изучение языка глубоко психологические понятия нации и человечества. Признание же субъективного элемента слова, или его внутренней формы, должно способствовать, по мнению ученого, более глубокому пониманию людьми друг друга и подтверждению факта творческой неповторимости каждого отдельного человека. Таким образом, грамматическая категория, понятие и внутренняя форма слова являются механизмами, способствующими как укоренению, идентификации, так и индивидуализации творческой личности в обществе» (146). предлагает «изучать чистую, безличную психологию искусства, безотносительно к читателю и автору» (40), так как литературное произведение, являющееся средством избавления от личностных проблем с помощью катарсического эффекта как для автора, так и для читателей, обладает собственными законами и историей их развития, независимыми от личности автора. утверждал, что особенности организации художественного произведения определяют «специфику функций системы творчества, различных ее компонентов, в числе которых и субъект творчества» (12). Однако попытка исключить личность из системы интерпретации творчества завела исследователей в тупик. По словам В. П. Большакова, психология творчества была деперсонализирована: «Творит литературу и „язык“ автора не авторское „Я“, сам язык выражает себя словами этого „Я“» (26). продукты А. А. Потебня Л. С. Выготский Е. Бассин

