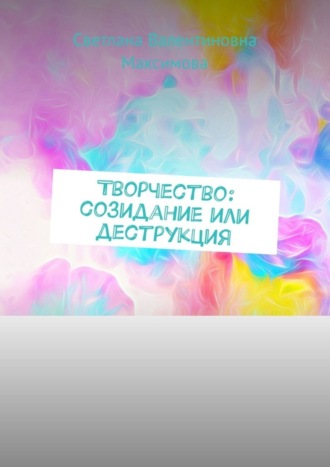
Полная версия
Творчество: созидание или деструкция
Продолжая философию Канта, ставит акцент на , а не созерцающем. Познание осуществляется через действование, активность. Человек познает мир через призму своего «Я», и, более того, само «Я» человека создается и развивается в процессе познания. Существование «Я» возможно только при условии существования (познания) «не я», оно существует на знаемого и незнаемого. По его мнению, человек, познавая мир, утверждает (делает) себя. Познание связано с самореализацией, переводом себя в план бытия, реальности. Таким образом, можно сказать, что не только активное сознание («Я») творит продукт (в данном случае познания), но и полученное знание (продукт) одновременно творит «Я» человека. В данном контексте можно сказать, что «Я» – это то, что знаю, если знание получено через собственную деятельность. И. Фихте активности субъекта, «Я» действующем границе
продолжает искать ответ на вопрос, намеченный Кантом в его «априорных формах» и Фихте в «единых сущностях и субстанциях», о том, как возможны синтетические суждения, иначе говоря, как в нашем сознании появляется что-то новое? Попытки ответа на этот вопрос содержатся в созданной им системе «транцендентального идеализма», согласно которой, в природе, как и в сознании человека, есть две стороны – объективная и субъективная. Усмотрение единства в этих противоположностях (а это и есть новое) происходит с помощью интуиции, и, таким образом, в каждом акте познания повторяется творение самого мира. Ф. Шеллинг
окончательно оформил идею творчества как процесса познания. Процесс развития знаний, с его точки зрения, происходит путем разрешения противоречий и подчиняется закону диалектической логики. Он утверждает, что нечто (в том числе человек) обладает границей, благодаря которой оно есть то, что оно есть, и способностью (стремлением) выходить за пределы своей границы, вынося свое качество во вне. Познание есть диалектический процесс ограничения и преодоления границ (единство и борьба противоположностей). По его мнению, наука и искусство имеют одну цель – познание, но являются разными средствами процесса познания. Главная способность художественного творчества – фантазия, противопоставленная пассивному воображению. Фантазия как творческая деятельность предполагает дар и склонность к схватыванию действительности и ее форм. Задача фантазии состоит в осознании внутренней разумности не в форме всеобщих положений и представлений, как это делает наука, а в конкретном облике индивидуализированной действительности. Гегель
Гегель подчеркивает ведущую роль активности творческого субъекта, говоря о необходимости долгого упорного труда и преодоления душевных потрясений для создания подлинно художественного произведения. В то же время он подчеркивает, что гения отличает легкость в приобретении необходимых знаний и навыков, так как у него есть в этом потребность, заинтересованность. То есть несвободу творца от своего произведения, которой раньше предписывали божественный или мистический характер, Гегель объясняет его заинтересованностью предметом творчества, например: «…у Шекспира сказания, старинные баллады, новеллы, хроники вызывают в нем настойчивую потребность придать форму этому материалу и вообще проявить себя в нем… поэт полностью поглощен своим предметом, целиком уходит в него и не успокаивается до тех пор, пока он не придаст художественной форме законченный и окончательный вид».
Развивая идеи Гегеля, показал, что лишение человека творческой деятельности («производящего праксиса») приводит к отчуждению человека от мира, от своей деятельности и, в конечном счете, – от себя самого. Преодолеть отчуждение возможно, лишь став субъектом своей деятельности («присвоить себе мир»). При этом деятельность понимается по аналогии с гегелевской субстанцией-субъектом (неким порождающим и независимым началом, которое само себя одухотворяет в ходе собственной порождающейся деятельности). Единственно достойной целью человека и общества, по его мнению, станет все большее самовыражение человека в ходе его жизни… Суть человеческого бытия – в творчестве. К. Маркс
Несколько иная трактовка творчества не только как познания, но как «синоним жизни» прослеживается в гуманитарно-антропологическом направлении западной философии. Отражая происходящие процессы взлета в культуре, появления новых направлений искусства, таких как импрессионизм, символизм, психологизм, философская мысль двигалась в сторону отвержения установок утилитаризма и натурализма, и внимание ученых направлялось на внутренний мир человека, эмоции и чувства души. трактует , а жизнь как непрерывное творчество форм. В его учении выражена мысль о том, что сложные феномены реальности принципиально невыразимы в традиционных философских категориях, их невозможно познать рациональным способом. Их постижение возможно только с помощью , усмотрения целого, которая выступает уже не как познание, а как миросозерцание, способ ориентации человека в мире. Анри Бергсон творчество как сущность жизни интуиции
В противовес существовавшим тогда психологическим концепциям он утверждал, что появление образов, процесс восприятия не выводим из деятельности мозга. По его мнению, сознательные восприятия и мозговые изменения являются функциями чего-то третьего которая выражается в действии. Он считал, что все образы можно разделить на два типа: материя и сознание. Он называет «материей совокупность образов, а восприятием материи те же самые образы в их отношении к возможному действию одного определенного образа, моего тела». При этом возникновение нового связывается именно со вторым типом образов, определяющих собственное отношение: «Все происходит так, как будто бы в той совокупности образов, которую я называю вселенной, что-то действительно новое могло бы возникнуть только при участии особого вида образов, образец которых дает мне мое тело». То есть, творчество понимается как появление особого типа образов, который он назвал «динамической схемой» – предобразом, целостным интуитивным представлением, предшествующим детализированному впоследствии образу. Он утверждал, что интуиция – есть сама сущность нашего духа. Автором подчеркивается, что интуиция есть «незаинтересованный» инстинкт, который не имеет (М.С.) интереса. Для интуиции необходимо усилие, чтобы отрешиться от стереотипов, привычек, сковывающих наше восприятие, обретая свободу. Таким образом, Бергсон выступает против детерминационного принципа объяснения эволюционного процесса: «Творение мира есть акт свободный, и жизнь внутри материального мира причастна этой свободе». – «непредопределенности воли», – практического
Эту идею подхватывает и развивает основным объектом которой является смысл творчества и для которой творчество оказывается синонимом свободы. Кьеркегор развивает идею о свободном характере творчества, противопоставляя гегелевской «необходимости» свободу, заключающуюся в выборе возможностей: «Возможность – горизонт свободных актов человека, позволивших человеку раскрыть свои творческие силы, стать самим собой, обрести свое спасение». Бог заключает в себе все возможности, поэтому усмотрение новых возможностей есть приближение к Богу. Таким образом, Бог уже понимается не как источник творчества, а конечная цель. философия экзистенциализма,
Для определяющим моментом в процессе творчества выступает стремление человека к истине. Он утверждает, что истина не объективна, а субъективна. Быть субъектом, то есть иметь отношение к миру и возможность выбирать, по его мнению, – основополагающее свойство человека. Способность человека определенным образом относиться к собственному бытию делает его свободным от бытия. Свобода мыслится как «самодостоверное самоопределение». Смысл жизни – в свободе, а свобода всегда сопряжена с риском. Путь к свободе лежит через творчество, через созидание. Познать истину – значит сотворить (собственное отношение, субъективную картину мира, а, следовательно, – себя). Таким образом, М. Хайдеггера творчество означает построение собственного отношения к миру.
продолжает эту мысль, делая акцент на роли в творчестве: «самость людей – и есть отношение». «Великого» человека отличает оригинальность, самобытность отношения. Истина для него – не данность, а процесс движения от потерянности к самосознанию, это – только направление, . Поэтому произведение искусства представляют собой не «зашифровку» действительности, а попытку ее преодоления, выражающейся в единственно возможной для данного субъекта форме – отношении. К. Ясперс субъективного отношении трансценденция уникальном
показал, что творчество – это не только отношение человека к миру, проявляющееся в его чувствах, стремлениях и т.д., но и в произведениях искусства, благодаря чему оно становится , средством воздействия на других людей: «искусство есть призыв». Ж-П. Сартр воплощение этого отношения средством общения
Итальянский философ , видя смысл человеческого бытия в стремлении к свободе, то есть избавлении от влияния общества, несущего необходимость, в возвращении человека к себе и к природе, понимает творчество, искусство – как способ обретения свободы. Преодоление необходимости заключается как основании его отношения к миру. Выбор себя (или выражение, реализация себя) есть и выбор бытия. Искусство есть способ выражения себя (выбора себя), а, следовательно, и обретения свободы. По его мнению, функция искусства заключается не только в познании, но и в самовыражении, воспитании и предсказании (прогнозировании) будущего. Н. Абаньяно в выборе
подхватывает идею Хайдеггера и Абаньяно о том, что творчество человека не столько открывает мир, сколько создает новый мир. Гений с помощью фантазии видит «не то, что природа действительно создала, а то, что она пыталась создать, но чего не достигла». Эта идея отразилась в концепции современного философа Ю. М. Лотмана об искусстве как о проигрывании . Действуя определенным образом, человек выбирает лишь одну из множества возможностей. Другие же (нереализованные) возможности, осознаваемые или переживаемые человеком, «требуют» своего материального воплощения. Искусство и есть способ воплощения нереализованных возможностей человека. В этом смысле искусство как бы движет человека и культуру в целом вперед, расширяя горизонт возможностей. Шопенгауэр противопоставляет науку и искусство: «В то время, как наука, следуя за беспрерывным и изменчивым потоком четверояких оснований и следствий никогда не может обрести конечной цели, полного удовлетворения, как нельзя в беге достигнуть того пункта, где облака касаются горизонта, – искусство, напротив, всегда находится у цели… Оно задерживает колесо времени, отношения исчезают перед ним только существенное, идея – вот его объект» (201). А. Шопенгауэр нереализованных возможностей
придавал искусству революционное значение в развитии культуры. Он пишет: «Мое направление в искусстве: продолжать творить не там, где пролегают но там, где простирается будущее! Необходимы образы, по которым можно будет жить!» (191). Смысл искусства видится им в человека: от творчества культуры – к творчеству жизни: «…высочайшие образы стимулируют сотворение прекрасных личностей это и есть смысл искусства… стимулирование творческой, обращенной на нас самих силы!» (191). Ф. Ницше границы, преображении личности
ввел идею абсурдного творчества. Мир, с его точки зрения, абсурден и несовершенен, но человек может переделать его. Только благодаря творчеству можно противостоять духовной смерти. Там, где бессильна мысль, выступает экспрессия. Задачу истинного искусства в противовес салонному, формальному искусству он видит не в познании действительности, а в понимании, преодолении противоречий между формой и содержанием, становлением и духом, историей и ценностями. Подлинное художественное начало – в испытании мира красотой. Для творчества необходима свобода, считает он, от принуждения оно умирает. Только принуждение, которое он сам себе навязывает, владеет человеком искусства. А. Камю в испытании себя, в бунте против мира и гармонизации этого бунта в красоте,
Таким образом, наряду с признанием человека субъектом творчества (Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг) стало считаться, что познание природы приведет к решению всех проблем, однако оказалось, что чем больше человек познает, тем больше рождается новых проблем, тем больше Хаос, а «тот, в ком живет гений, страдает больше всех» (А. Шопенгауэр). Это привело философскую мысль к пессимизму и нигилизму. Философы-экзистенциалисты видят выход их этого тупика – в искусстве (творчество как противоположность смерти). Они считали, что спасение придет через красоту (Ф. М. Достоевский, А. Камю), через Истину, таящуюся в произведениях искусства (Хайдеггер). Искусство стало пониматься не только (М. Хайдеггер, К. Ясперс, А. Шопенгауэр). По мнению Ф. Ницше мир – абсурден, искусство необходимо нам, чтобы не умереть от истины. Смысл человеческой жизни видится ими как постижение истины, но как полагание истины в служении красоте, истине, добру, справедливости и свободе.
В творчеству придавалось значение, что отразилось в идее софийности творчества (Н. Бердяев, М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, В Соловьев, С. Булгаков, Н. О. Лосский, П. А. Флоренский и др.). Творчество понималось как Главный объект человеческого творчества – сам человек, его духовное и нравственное развитие, личность. Проблема творчества являлась одной из наиболее значимых. С одной стороны интерес к творчеству исходил из особенностей эпохи глобального преобразования мира, с другой – из «традиционного для христианской метафизики принципа творения. Религиозно ориентированными философами творчество исследуется непосредственно в контексте идеи творения мира, которое само по себе есть постоянно длящийся и всеохватывающий процесс. Действие Бога и полагание им вне себя реальности является первичным актом творения в онтологическом порядке… В субстанциональном отношении творение понимается безусловным принципом энергии, на основании которого могут развертываться отдельные созидающие силы, актуализирующиеся в результате творчества, где действительность одухотворяется и происходит рождение „нового“. Таким образом, в творчестве человек соучаствует в метафизическом процессе творения и выпадает в нем из детерминации земной (вещественной) жизни. Здесь личность испытывает действие сущего как собственное начало, что позволяет ей, с точки зрения религиозной метафизики, ощутить свою связанность с Богом вне религиозного опыта. Поэтому истоки творчества обуславливаются слиянием индивида с самим существом человека и культуры, так как взрывает их определенность» (191). русской философии духовное космический принцип мира, который имманентен человеку.
В основе русской философии лежали поиски «изначальности» бытия, отсюда стремление любой отдельный акт истолковывать как проявление выразившееся наиболее ярко в философии всеединства (В. Соловьев). С другой стороны, русских мыслителей волновали не столько поиски истины, сколько поиск смысла существования человека, человечества, жизни. Условием осмысленности (в противоположность бессмысленности) жизни является свободная творческая личность. Преодоление социального и культурного кризисов виделось в творческом самосовершенствовании личности, достижении свободы и обретении ответственности. В противовес марксисткой философии, в которой творчество рассматривается как целенаправленная деятельность, обусловленная экономическими и общественными закономерностями, в русской философии 19-го века господствует положение о надыисторичности и надсоциальности творчества как духовной первосущности. Творчество самоцельно и самодостаточно. Творчество есть . целого, путь к смыслу и есть сам смысл
В контексте концепции всеединства творчество понимается как «, то есть на формирование „реалистического“ отношения к нему. Критерием творчества является привнесение себя в мир, а мира в себя, когда сам этот процесс становится реальностью» (191). П. Флоренского активная деятельность, напряжение воли, трудовое действие, целеустремленность, направленные на осуществление „жизни в мире“
П. Флоренский отличает творчество как «обретение» вечного в бытии и «изобретение» – пассивное, иллюзорное, субъективное миропонимание. Для «обретения» необходимо усилие всей личности, тогда как для «изобретения» достаточно рассудочной разработки сочиненного принципа.
Смысл творчества видится в активном восхождении человека в сферу всеединства. «Всеединство было идеалом целостности всего вселенского мира, в котором в единой всечеловеческой гармонии души людей сольются друг с другом и Космосом. Неудовлетворенность тоски по олицетворению, воплощения этого идеала привела к имманентному эстетической сфере символизму, призванному решить эту задачу» (191).
утверждал, что в познании «подлинная стихия разума… чудная и завораживающая картина самоутверждения смысла и разумений» (191). Средством не только познания, но и творения мироздания Лосев и Флоренский считают символ. «Символ – это нечто, являющее собою то, что не есть он сам, больше его, и однако существенно через него проявляющееся» (191). Символ как инобытийная структура отражает и форму – воплощенное творчество и смысл. Форма одухотворена, если она является лишь вершиной айсберга, корни которого уходят вглубь. Поэтому искусственное изобретение форм бессмысленно. С точки зрения Флоренского «…искусство есть особая форма переорганизации с целью придания телесной реальности статуса духовного бытия» (191). А. Ф. Лосев слиты явление и смысл:
Творчество понималось Лосевым как активный осуществляющийся в выражении – самопревращении внутреннего, смыслового во внешнее. , идея и вещь, мышление и бытие тождественны, но различны. Поэтому именно в творчестве возможно преодоление антиномии между сознанием и бытием. переход сознания в бытие, В символе внешнее и внутреннее
В философии имени, развиваемой Лосевым, он обосновывает идею о том, что процесс познания «совершается посредством имени, связывающего познающего и познаваемого. Имя как вид символа является осуществившейся идеей, продуктом творчества, «квинтэссенция культуры».
считал основополагающем в творчестве . «Акцент на создание нового не является целью творчества это некий побочный эффект. Творчество – это межсубъектное отношение (диалог – Библер). Результат творчества всегда личностью направлен, открыт диалогу, поэтому не может быть антигуманным. Не любое создание нового есть творчество, а то, что возникло из общения личности и мира („глубинного общения“ и направлено, адресовано другим» (13). Г. С. Батищев общение личности и мира
Творчество связывается со способностью к проблематизации своего мира, (13). способностью к восприятию проблем и несовершенства мира как своих собственных и способностью к «их созидательно-положительному превозможению»
Творчество, по мнению философа, неразрывно с нравственным и духовным развитием человека: «Это – беспредельный процесс субстанциализации, процесс, который чем основательнее достраивает незавершенную логику мира своими проблемными решениями, тем больше усиливает в уже построенном зов к дальнейшему строительству, ибо тем больше новых противоречий порождает и тем самым включается во все более основательные проблемы. … Чем значительнее он обогащает субъектные сущностные силы, тем острее их жажда дальнейшего обогащения новыми потенциями» (13). Сущность человека Батищев рассматривает не только как одной из возможностей, но и как для собственного развития: предметный мир человека содержит в себе «ограниченную „сумму“ возможностей, между тем, в качестве субъекта человек может существовать, лишь создавая принципиально новые возможности» (13). выбор способность создавать принципиально новые возможности
Батищев выделяет 3 уровня развития личности: орудийно-полезностный, уровень ценностей и уровень развития. Именно последний связывается с творчеством: «здесь человек не просто присваивает или осваивает мир, но приемлет его в свою сущность, обретает себя вновь и вновь как творца-субъекта. Человек вбирает в себя смыслообразующие содержания духовной культуры во всей их живой диалектике и строит себя из них… человек здесь по настоящему открыт другому человеку… как ставящий себя на место другого во всем, включая – это суть дела! – его авторствование в своей жизни… Каждый есть автор своих поступков, своих мыслей и идеалов, а это и открывает его каждому другому как субъекта, причем вся унаследованная каждым прежняя культура здесь возрождается к новому участию в живой творческой жизни в ансамбле с новыми решениями» (13).
рассматривал творчество самосозидания, как все возрастающая интеграция интеллектуальных, эмоциональных, волевых, осознаваемых и неосознаваемых и т. д. систем психической регуляции. Основной акцент в понимании творчества ставился на личностном, историческом начале. Личность, по его мнению, существует на границе («на пороге») своих отношений с миром, она принципиально не завершена, никогда не совпадает сама с собой, она —трансцендентна. Личность существует в общении с другими, она «коммунальна» по происхождению и способу существования. И, наконец, личность устремлена в будущее, она живет в категориях цели и смысла»: «Мое определение самого себя дано мне… в категориях еще-не-бытия, в категориях цели и смысла, в смысловом будущем». «Только в состоянии нетождественности самой себе, вступая в со-бытие (диалог) с уникальностью «другого», личность достигает подлинной жизни и обретает собственную уникальность, творя новый мир понимающего и самоутверждающегося духа» (191). Несмотря на подчеркивание социально-исторической природы творчества, оно рассматривается, в отличие от марксистской теории, не как «эманацию в личность трансцендентных сущностей», а как «самоопределение в диалектическом взаимоотношении, взаимообмене между «Я», «другими» и социальной общностью… социальное не проецируется в ее деятельность как пассивное отражение… творчество – волевой акт ответственного поступка личности, осмысленно преломляющей в себе мир. Социально-исторический контекст есть диалогизирующий «интонационно-ценностный» фон, меняющийся по эпохам восприятия, поэтому произведения культуры живут в потенциально бесконечном смысловом диалоге» (191). М. М. Бахтин как механизм развития личности,
Личность связывается с . Субъект творчества – «единственно активная формирующая энергия, данная не в психологически концентрированном сознании, а в устойчиво значимом культурном продукте, и активная реакция его дана в обусловленной ею структуре образа, ритме его обнаружения, в интонативной структуре и в выборе смысловых моментов» (29). В творчестве субъект проявляется через отношение к событию, при этом любое принципиальное отношение имеет творческую природу. Поэтому «культурный продукт – не вещь, а форма содержания внутреннего мира человека» (29). Сущность творчества усматривается Бахтиным в осуществлении смысла. «внутренним единством смысла», активностью субъекта, ответственностью человека за свои поступки
Творчество является одной из основополагающих тем философского мировоззрения Он пишет: «Свобода, личность, творчество лежат в основе моего мироощущения и миросозерцания». Творчество понимается .Творчество – не создание некоторых продуктов культуры, а, прежде всего сам , ответ человека Богу. Бердяев проповедует христианский творческий антропологизм: идея творчества выступает как . Творчество не нуждается в оправдании, оно оправдывает человека. Творчество не оправдывается и не допускается религией, а само является религией.Бердяев говорит об антроподицеи, «третьем антропологическом откровении», возвещающем о наступлении «творческой религиозной эпохи». (16) Его целью служит искание смысла, который всегда находится за пределами мировой данности; творчество означает «возможность прорыва к смыслу через бессмыслицу». Смысл есть ценность, и потому ценностно окрашено всякое творческое стремление. Творчество создает особый мир «новую жизнь, новое небо и новую землю» (16), оно «продолжает дело творения», уподобляет человека Богу-Творцу. Присущая человеку способность к творчеству божественна, и в этом состоит его богоподобие. Творчество человека не есть требование человека и право его, а есть требование Бога от человека, обязанность человека». Тайна творчества также «бездонна и неизъяснима», как и тайна свободы. Именно в творчестве человек как бы соединяется с Богом. В процессе творчества в человеке раскрывается божественное, и ценностью этого раскрытия становится то, что инициатива при этом исходит от самого человека, обладающего свободой воли, т.е. творчество управляется «снизу», самим человеком. Н. Бердяева. им как реализация свободы, путь к гармонизации бытия процесс религиозная задача человека

