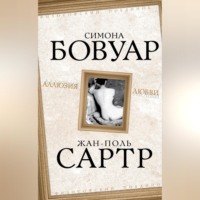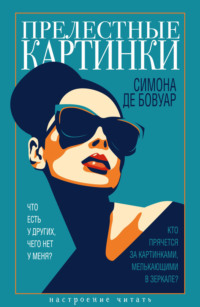Полная версия
Второй пол
Было бы совершенно недостаточно сводить подобное отвращение к тому, что всегда вызывает вид крови: конечно, кровь сама по себе – сакральный элемент, как ничто другое, проникнутый таинственной маной, несущей одновременно и жизнь, и смерть. Но менструальная кровь наделена совсем особыми пагубными свойствами. Она воплощает сущность женского начала. А потому ее истечение таит в себе опасность для самой женщины, чья мана материализуется подобным образом. Девушек племени джагга во время инициации увещевают тщательно скрывать менструальную кровь. «Не показывай ее матери, она умрет. Не показывай ее подругам, ибо среди них может оказаться дурная, она возьмет себе тряпку, которой ты вытиралась, и брак твой будет бесплодным. Не показывай ее злой женщине, она возьмет твою тряпку и повесит на крыше своей хижины… и ты тогда не сможешь иметь детей. Не бросай тряпку на тропу или в кусты. Злой человек может творить с ее помощью дурные вещи. Закопай ее в землю. Прячь кровь от глаз твоего отца, братьев и сестер. Если ты дашь увидеть ее, это грех»[95]. У алеутов, если отец увидит дочь во время первых месячных, она может ослепнуть или онеметь. Считается, что в этот период в женщину вселяется дух и она обладает опасной силой. Некоторые первобытные народы верят, что кровотечение вызывается укусом змеи, так как женщина подозрительным образом связана со змеей и ящерицей и кровь ее сродни яду ползучих тварей. В Книге Левит менструация сближается с гонореей; кровоточащий женский орган – не просто рана, но сомнительная язва. А Виньи соотносит понятие нечистоты с болезнью: «Женщина – дитя больное, нечистое двенадцать раз». Периодическое кровотечение у женщин, плод непонятной внутренней алхимии, странным образом связано с лунным циклом – у луны тоже бывают опасные причуды[96]. Женщина – часть устрашающего механизма, направляющего ход планет и солнца, она целиком во власти космических сил, ведающих судьбами звезд, приливов и отливов и оказывающих опасное воздействие на людей своими излучениями. Но поразительнее всего то, что воздействие менструальной крови связано с представлением о свернувшихся сливках, незагустевшем майонезе, о брожении и разложении; утверждают также, что от этого воздействия бьются хрупкие предметы, рвутся струны на скрипках и арфах, но особенно сильное влияние менструальная кровь имеет на органические субстанции, пребывающие между материей и жизнью, причем не столько потому, что это кровь, сколько потому, что выделяется она из детородного органа; пусть даже точная функция ее неизвестна, все знают, что она связана с зарождением жизни; древние, не зная о существовании яичника, даже видели в менструальных выделениях дополнение к сперме. На самом деле не эта кровь делает женщину нечистой: она скорее проявление женской нечистоты; она появляется в тот момент, когда женщина может быть оплодотворена; а когда исчезает, женщина, как правило, снова становится бесплодной; она течет из чрева, где формируется зародыш. В отношении к ней проявляется ужас, который испытывает мужчина перед женской плодовитостью.
Среди табу, связанных с женщиной в состоянии нечистоты, ни одно не может сравниться по строгости с запретом всяких половых сношений с ней. Левит обрекает мужчину, преступившего это правило, на семь дней нечистоты. Законы Ману на сей счет более суровы: «У мужчины, приближающегося к женщине, покрытой месячными выделениями, гибнет ум, энергия, сила, зрение и жизненность». На мужчин, имевших половые связи с женщинами во время менструации, налагалось пятидесятидневное покаяние. Поскольку считается, что женское начало достигает в этот период максимальной силы, возникает боязнь, что при интимном контакте оно возобладает над мужским началом. Кроме того, мужчина со смутным отвращением обнаруживает в женщине, которой обладает, пугающую его материнскую сущность; он старается разъять эти два аспекта женственности – поэтому запрет инцеста в форме экзогамии или в более современных вариантах есть всеобщий закон; поэтому мужчина избегает полового сближения с женщиной в те моменты, когда она особенно предана своей репродуктивной роли, – во время месячных, беременности и кормления грудью. Эдипов комплекс (который, впрочем, следовало бы описать заново) не противоречит такому отношению, а, наоборот, подразумевает его. Мужчина защищается от женщины постольку, поскольку она есть смутный источник мира и неясное органическое становление.
Однако в том же обличье женщина позволяет обществу, отделившемуся от космоса и богов, поддерживать с ними связь. У бедуинов и ирокезов от нее до сих пор зависит плодородие полей; в Древней Греции она слышит подземные голоса; ей внятен язык ветра и деревьев – она Пифия, Сивилла, прорицательница; ее устами говорят мертвые и боги. Она и сегодня сохраняет дар прорицания: она – медиум, хиромантка, гадалка, ясновидящая, вдохновленная свыше; она слышит голоса, у нее бывают видения. Когда мужчины ощущают потребность вновь погрузиться в лоно растительной и животной жизни – как Антей, припадавший к земле, чтобы восстановить силы, – они взывают к женщине. Хтонические культы сохраняются и в рационалистских цивилизациях Греции и Рима. Как правило, они существуют вне официальной религиозной жизни и в конечном счете даже приобретают, как в Элевсине, форму мистерий; их смысл противоположен смыслу солярных культов, в которых человек утверждает свою волю к отделению и духовности, но они дополняют эти культы; человек пытается вырваться из одиночества через экстаз – такова цель мистерий, оргий, вакханалий. В отвоеванном мужчинами мире дикие и магические свойства Иштар и Астарты были узурпированы богом-мужчиной Дионисом, но вокруг его изображения неистовствуют именно женщины: менады, тиады, вакханки зовут мужчин к сакральным возлияниям, к священному безумию. Аналогичную роль играет и сакральная проституция: речь идет одновременно о высвобождении и направлении в нужное русло сил плодородия. Для народных празднеств еще и поныне характерен взрывной эротизм, когда женщина предстает не просто объектом наслаждения, но средством достичь той hybris[97], в которой человек выходит за пределы самого себя. «Все потерянное, трагическое, то „ослепляющее чудо“, что несет в себе человек, теперь можно встретить лишь в постели», – пишет Ж. Батай.
В эротическом исступлении прижимая к себе возлюбленную, мужчина стремится затеряться в бесконечной тайне плоти. Но, как мы видели, его нормальное половое чувство, напротив, разделяет мать и супругу. Таинственная алхимия жизни вызывает у него отвращение, тогда как его собственная жизнь питается и наслаждается сладкими плодами земли; он жаждет обладать ими; он страстно желает Венеру, только что вышедшую из вод морских. Поскольку высший творец – мужчина, женщина при патриархате осознает себя в первую очередь как супруга. Ева – не только мать рода человеческого, но прежде всего подруга Адама; она была дана мужчине, чтобы он обладал ею и оплодотворял ее, как обладает землей и ее оплодотворяет; через нее он превращает всю природу в свое царство. В половом акте мужчина ищет не только мимолетного субъективного удовольствия. Он хочет завоевывать, брать, владеть; обладать женщиной – значит победить ее; он входит в нее, как лемех в борозду; он делает ее своею, как землю, которую обрабатывает; он пашет, сажает, сеет – все эти образы стары, как письменность; от Античности до наших дней подобных примеров можно привести тысячи. «Женщина считается воплощением поля, мужчина считается воплощением семени», – гласят законы Ману. На одном из рисунков Андре Массона изображен мужчина с лопатой, вскапывающий сад женского органа[98]. Женщина – добыча своего супруга, его имущество.
Колебания мужчины между страхом и желанием, между боязнью оказаться во власти неконтролируемых сил и стремлением ими завладеть особенно ярко выражаются в мифах о девственности. То пугающая мужчин, то желанная и даже требуемая, она предстает как наиболее завершенная форма женской тайны: это ее самый тревожный и одновременно завораживающий аспект. В зависимости от того, чувствует ли себя мужчина подавленным окружающими его силами или самонадеянно полагает, что способен ими завладеть, он либо отказывается, либо настаивает, чтобы супруга досталась ему девственницей. В самых примитивных обществах, где превозносится могущество женщины, верх берет страх; женщине следует лишиться девственности до первой брачной ночи. Марко Поло утверждал, что никто из жителей Тибета «не пожелал бы взять в жены девственницу». Иногда этот отказ получал рациональное объяснение: мужчина не хочет жениться на женщине, не возбуждавшей раньше мужских желаний. Арабский географ Аль-Бакри рассказывает о славянах: «Если мужчина женится и обнаруживает, что жена его девственна, он говорит ей: „Если бы ты чего-то стоила, мужчины бы любили тебя и нашелся тот, кто похитил бы твою девственность“». После этого он прогоняет ее и расторгает брак. Утверждают даже, что у некоторых первобытных народов мужчины женятся только на женщинах, уже имеющих детей и доказавших тем самым свою способность рожать. Но истинные мотивы столь распространенных обычаев дефлорации – мистического свойства. У некоторых народов бытуют представления о живущей во влагалище змее, которая кусает супруга в момент разрыва девственной плевы; девственной крови приписывают ужасающие свойства, она сближается с кровью менструальной и тоже может уничтожить мужскую силу. В этих образах выражена идея, что женское начало особенно сильно и особенно опасно, когда нетронуто[99]. В некоторых случаях проблема дефлорации вообще не возникает; например, у туземцев, описанных Малиновским, девушки вообще не бывают девственными, поскольку половые игры разрешены с самого детства. Иногда мать, старшая сестра или какая-нибудь замужняя женщина систематически дефлорирует девочку и на протяжении всего детства расширяет ей вагинальное отверстие. Бывает также, что с наступлением половой зрелости дефлорацию осуществляют женщины – с помощью палки, кости или камня, и она считается просто хирургической операцией. В других племенах девочку, достигшую зрелости, подвергают дикой инициации: мужчины отводят ее за пределы деревни и либо насилуют, либо дефлорируют с помощью каких-либо орудий. Один из наиболее распространенных ритуалов состоит в том, что девственниц отдают проезжим чужакам, либо полагая, что на них не распространяется действие маны, опасной только для мужчин своего племени, либо не заботясь о бедах, которые навлекают на их голову. Еще чаще невесту накануне брачной ночи лишает девственности жрец, или врач, или касик, вождь племени; на Малабарском берегу эта операция возложена на брахманов, которые, судя по всему, проделывают ее без всякого удовольствия и требуют солидного вознаграждения. Известно, что все сакральные предметы опасны для мирянина, но посвященные могут иметь с ними дело, ничем не рискуя; понятно поэтому, что жрецы и вожди способны укротить пагубные силы, от которых следует беречься супругу. В Риме от этих обычаев оставалась лишь символическая церемония: невесту сажали на фаллос каменного Приапа, преследуя при этом двойную цель – увеличить ее плодовитость и поглотить чересчур мощные, а потому пагубные флюиды, которые от нее исходят. Муж может защищаться и иначе: он дефлорирует девственницу сам, но в ходе церемоний, делающих его в критический момент неуязвимым, – например, производит эту операцию в присутствии всей деревни с помощью палки или кости. На Самоа он использует палец, предварительно обернув его белой тряпкой, а потом раздает присутствующим окровавленные лоскутки. Бывает, что ему разрешено дефлорировать жену естественным путем, но при условии, что он будет эякулировать в нее не раньше чем по прошествии трех дней, дабы девственная кровь не испачкала оплодотворяющее семя.
Путем обращения, классического для области сакрального, девственная кровь в менее примитивных обществах становится символом благотворным. Во Франции до сих пор есть деревни, где наутро после свадьбы вывешивают на обозрение родственников и друзей окровавленную простыню. Дело в том, что при патриархальном строе мужчина стал господином женщины; и те самые свойства, что страшат в животных или в непокоренных стихиях, становятся ценными качествами для собственника, сумевшего их приручить. Необузданный нрав дикого скакуна, неистовую силу молнии и водопадов человек превратил в орудия собственного процветания. А потому и женщину он хочет присвоить нетронутой, во всем ее богатстве. Конечно, в том, что девушке предписано блюсти невинность, играют определенную роль рациональные мотивы: целомудрие невесты, как и добродетель супруги, необходимо, чтобы отец не рисковал передать свое имущество чужому ребенку. Но когда мужчина рассматривает супругу как свою личную собственность, требование девственности носит более непосредственный характер. Во-первых, идею обладания никак нельзя воплотить позитивно: на самом деле мы ничего и никого никогда не имеем; поэтому люди пытаются осуществить ее негативно; самый верный способ утвердить некое имущество как мое – это не позволить другим им пользоваться. К тому же человека больше всего прельщает то, что еще никогда никому не принадлежало: тогда победа предстает единственным в своем роде, абсолютным событием. Первопроходцев всегда манили целинные земли; каждый год кто-то из альпинистов гибнет, желая покорить нетронутую вершину или даже просто пытаясь проложить к ней новый путь по склону; любопытные рискуют жизнью, спускаясь под землю, в недра еще не исследованных пещер. Уже покоренный человеком предмет превратился в орудие; отрезанный от своих естественных связей, он лишается самых глубинных своих достоинств; неукрощенный поток водопада обещает больше, чем вода городского фонтана. Девственное тело свежо, как потаенные источники, бархатисто, как нераскрывшийся бутон на заре, и сияет, как жемчужина, еще не обласканная солнечными лучами. Мужчина, словно дитя, заворожен пещерой, храмом, алтарем, тайным садом – всеми сумрачными, закрытыми местами, в которые никогда не проникал живительный луч сознания, которые ждут, чтобы в них вселили душу; он считает все, им захваченное, все, куда проник лишь он один, своим собственным творением. Кроме того, одна из целей любого желания – это потребление желанного предмета, предполагающее его разрушение. Разрывая девственную плеву, мужчина обладает женским телом более глубоко и лично, чем при пенетрации, оставляющей ее незатронутой; этим необратимым актом он недвусмысленно превращает тело женщины в пассивный объект, утверждает свою власть над ним. Этот смысл очень точно выражает легенда о рыцаре, пробивающемся через колючий кустарник, чтобы сорвать розу, аромат которой еще никому неведом; он не только находит ее, но и ломает ее черенок: так он завладевает ею. Образ настолько прозрачен, что в народном языке «похитить цветок» у женщины означает лишить ее невинности; от этого выражения произошло слово «дефлорация».
Но девственность обладает эротической привлекательностью только в сочетании с юностью, иначе тайна ее вновь вселяет беспокойство. Многие мужчины сегодня испытывают сексуальное отвращение к слишком затянувшейся девственности; на «старых дев» смотрят как на сварливых и злобных матрон по причинам не только психологического свойства. Проклятие заключено в самом их теле – теле, не ставшем объектом ни для одного субъекта, не превращенном ничьим желанием в желанное, расцветшем и увядшем, не найдя себе места в мужском мире; не отвечая своему назначению, оно становится нелепым объектом, тревожным, как тревожна невыразимая мысль безумца. Я слышала, как один мужчина грубо сказал о сорокалетней женщине, еще красивой, но, как предполагалось, девственнице: «У нее там полно паутины…» И действительно, погреба и чердаки, куда больше никто не заходит и которые никому не нужны, заполняются нечистой тайной; в них охотно селятся призраки; покинутые людьми дома становятся жилищами духов. Если женщина не посвятила свою девственность какому-нибудь богу, все охотно верят, что она состоит в связи с демоном. Девственниц, не покоренных мужчиной, старух, избегнувших его власти, легче всех прочих принимают за ведьм; раз удел женщины – посвятить себя другому, то, не подпав под иго мужчины, она готова принять на себя иго дьявола.
Супруга, если из нее изгнали злых духов с помощью обрядов дефлорации или, наоборот, если она чиста благодаря своей девственности, может оказаться желанной добычей. Любовник, сжимая ее в объятиях, хочет владеть всеми богатствами жизни. Она – вся земная фауна и флора: газель, лань, лилия и роза, бархатистый персик, ароматная малина; она – драгоценные камни, перламутр, агат, жемчуг, шелк, небесная лазурь, свежесть ключевой воды, воздух, пламя, земля и вода. Все поэты Востока и Запада преображали женское тело в цветы, плоды, птиц. И здесь в подтверждение можно привести целую антологию, от Античности и Средних веков до наших дней. Кто не знает Песни песней, где возлюбленный говорит возлюбленной:
Глаза твои голубиные…Волосы твои – как стадо коз…Зубы твои – как стадо выстриженных овец…Как половинки гранатового яблока – ланиты твои…Два сосца твои – как двойни молодой серны…Мед и молоко под языком твоим…Андре Бретон обращается к этой вечной песне в «Звезде кануна»: «Со вторым криком Мелюзина оставит свои тяжелые бедра, и, хотя лоно ее уже вобрало в себя осеннюю жатву, стан ее устремлен вверх фейерверком, изящно изогнувшись, покорный воздуху, как ласточкины крылья; груди ее – словно горностаи, испуганные своим собственным криком, ослепленные ярким огнем, что разгорается в их глубинах и рвется со стоном наружу, силой любви размыкая уста. А руки ее подобны благоухающим, музыкальным ручьям…»[100]
Мужчина находит в женщине сияние звезд и мечтательность луны, солнечный свет и пещерный сумрак; и наоборот, цветы дикого кустарника, горделивая садовая роза – женщины. Деревни, леса, озера, моря и ланды полны нимф, дриад, сирен, ундин, фей. Ничто так глубоко не коренится в сердце мужчин, как этот анимизм. Море для моряка – опасная, коварная, непокорная женщина, которую он ласкает, стараясь ее укротить. Гордая, строптивая, девственная, злая гора – женщина для альпиниста, который, рискуя жизнью, хочет ею овладеть. Принято считать, что в таких сравнениях проявляется сексуальная сублимация, но скорее они выражают изначальное, как сам пол, родство женщины и природных стихий. Мужчина ждет от обладания женщиной не просто утоления инстинкта; она – главный объект, через который он покоряет Природу. Случается, что эту роль играют другие объекты. Иногда мужчина ищет песчаных берегов, бархатных ночей, аромата жимолости на теле юных мальчиков. Но плотское овладение землей может быть реализовано не только путем пенетрации. В романе «Неведомому Богу» Стейнбек рисует мужчину, выбравшего посредницей между собой и природой поросшую мхом скалу; Колетт в «Кошке» описывает молодого мужа, сосредоточившего свою любовь на любимице-кошке, потому что через это дикое и нежное животное он обретал власть над чувственным миром, которой не могло ему дать человеческое тело подруги. Другой может воплотиться в море или горе не хуже, чем в женщине; они оказывают мужчине то же пассивное и непредсказуемое сопротивление, позволяющее ему осуществить себя; они – отказ, который нужно побороть, добыча, которой нужно завладеть. Если море и гора – женщины, то лишь потому, что женщина для любовника – это море и гора[101].
Но не всякой женщине дано стать посредницей между мужчиной и миром; мужчине недостаточно обнаружить у партнерши половые органы, дополняющие его собственные. Нужно, чтобы она воплощала волшебный расцвет жизни и при этом прятала ее смущающие тайны. А потому от нее прежде всего требуется молодость и здоровье, ибо, сжимая в объятиях нечто живое, мужчина окажется во власти его чар, только если забудет, что любая жизнь несет в себе смерть. Он желает еще большего – чтобы возлюбленная была красива. Идеал женской красоты изменчив, но некоторые требования остаются постоянными; среди прочего, поскольку предназначение женщины в том, чтобы ею обладали, ее телу должны быть присущи свойства инертного и пассивного объекта. Мужская красота – это приспособленность тела к активным функциям, это сила, ловкость, гибкость, это явленная трансценденция, одушевляющая плоть, которая никогда не должна замыкаться на себе. Симметричный женский идеал встречается в таких обществах, как Спарта, фашистская Италия, нацистская Германия, – там, где женщина предназначена для государства, а не для индивида, где ее рассматривают исключительно как мать, совсем не оставляя места эротизму. Но когда женщина дана во владение мужчине как его имущество, он требует, чтобы ее плоть присутствовала в своей чистой фактичности. Ее тело воспринимается не как излучение данного субъекта, но как вещь, отяжелевшая в своей имманентности; тело это не должно отсылать к остальному миру, не должно быть обещанием чего-то иного, кроме самого себя: ему надлежит прекращать желание. В самой простодушной форме это требование выражено в готтентотском идеале широкозадой Венеры; ведь ягодицы – часть тела, где меньше всего нервных окончаний, где плоть предстает как бесцельная данность. Пристрастие восточных мужчин к толстым женщинам того же рода: им нравится абсурдная роскошь обильных жировых тканей, не одушевленных никаким проектом, не имеющих иного смысла, кроме того, что они есть[102]. Даже в цивилизациях с более тонкой чувствительностью, куда проникли понятия формы и гармонии, груди и ягодицы остаются излюбленными объектами по причине своего бескорыстного случайного расцвета. Нравы и мода часто усердно старались отрезать женское тело от его трансценденции: китаянка с перевязанными ногами едва может ходить, длинные накрашенные ногти голливудской звезды лишают ее рук, высокие каблуки, корсеты, фижмы, панье, кринолины призваны были не столько подчеркнуть линии женского тела, сколько сделать его еще более бессильным. Отягощенное жиром или же, наоборот, полупрозрачное, не способное ни на какие усилия, парализованное неудобной одеждой и правилами благопристойности, оно видится мужчине как его вещь. Косметика и украшения также служат окаменению тела и лица. Функция женского украшения очень сложна; у некоторых первобытных народов оно носит сакральный характер, но обычно его роль в том, чтобы окончательно превратить женщину в идола. Идола неоднозначного: мужчина хочет женщину плотскую, красота которой сродни красоте цветов и плодов, но одновременно она должна быть гладкой, твердой, вечной, как камень. Роль украшения в том, чтобы, с одной стороны, еще теснее связать женщину с природой, а с другой – вырвать ее оттуда, сообщить трепетной жизни застывшую необходимость искусственности. Примешивая к своему телу цветы, меха, драгоценные камни, раковины, перья, женщина становится растением, пантерой, бриллиантом, перламутром; она пользуется духами, чтобы источать аромат, как роза или лилия, но перья, шелк, жемчуг и духи служат и для того, чтобы скрыть животную грубость своей плоти, своего запаха. Она красит губы и щеки, чтобы придать им неподвижную твердость маски; она заключает свой взгляд в оковы косметического карандаша и туши для ресниц, и он становится лишь переливающимся украшением ее глаз; волосы, заплетенные в косы, завитые и уложенные, теряют свою волнующую растительную тайну. Природа присутствует в убранной женщине, но это уже природа-пленница, приведенная человеческой волей в соответствие с мужским желанием. Женщина тем желаннее, чем сильнее расцветает в ней природа и чем жестче она порабощена: идеальным эротическим объектом всегда была «вычурная» женщина. Вкус же к более естественной красоте часто бывает всего лишь благовидной формой той же вычурности. Реми де Гурмон желает, чтобы женщина ходила с распущенными волосами, свободными, как ручьи и луговые травы, – однако волнистую поверхность вод и колосьев можно ощутить, лишь лаская локоны какой-нибудь Вероники Лейк, а не косматую шевелюру, действительно предоставленную самой природе. Чем моложе и здоровее женщина, тем больше кажется, что ее новому лощеному телу суждена вечная свежесть, тем меньше она нуждается в искусственности; но от мужчины всегда следует скрывать телесную слабость добычи, которую он сжимает в объятиях, – грозящее ей увядание. Кроме того, мужчина боится ее возможной судьбы, мечтает, чтобы она оставалась неизменной, необходимой, а потому ищет в лице женщины, в ее стане и ногах точного воплощения идеи. У первобытных народов идея сводится к доведенному до совершенства народному типу: раса с толстыми губами и плоским носом ваяет толстогубую и плосконосую Венеру; позже к женщинам прилагают более сложные эстетические каноны. Но в любом случае, чем лучше согласуются с ними черты и пропорции женщины, тем больше она радует сердце мужчины, ибо она словно неподвластна любым превратностям природы. Таким образом, мы приходим к странному парадоксу: желая уловить в женщине природу – природу преображенную, – мужчина обрекает женщину на искусственность. Она не только «физис», но и в равной мере «антифизис», причем не только в цивилизованных странах, где делают электрический перманент, восковую эпиляцию и носят пояса из латекса, но и там, где живут негритянки с круглыми пластинами в губе, в Китае и повсюду на земле. Эту мистификацию разоблачил Свифт в знаменитой оде к Селии; он с отвращением описывает арсенал кокетки и с отвращением напоминает о животных функциях ее тела; в своем возмущении он вдвойне не прав, ибо мужчина хочет, чтобы женщина одновременно была зверем и растением и чтобы она скрывалась под рукотворной броней; он любит ее выходящей из морской пены и из дома моделей, обнаженной и одетой, обнаженной под одеждой, именно такой, какой привык видеть ее в человеческом мире. Горожанин ищет в женщине животное начало, но для молодого крестьянина на военной службе бордель воплощает в себе всю магию города. Женщина есть поле и пастбище, но одновременно – Вавилон.