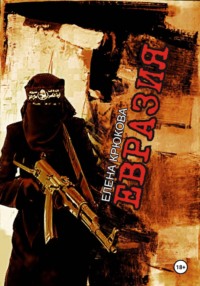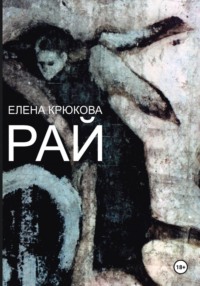полная версия
полная версияХоспис
Я глядел на этого бродягу в язвах и вдруг вспомнил слепого мальчика там, в тюрьме, на тюремном концерте. Слепой мальчишка не был осужден сидеть в камере всю жизнь. Его, сказали мужики, привезли с другой зоны, из колонии общего режима. Он очень хорошо пел. Его, как певца, возили по лагерям. Слезу из осужденных вышибали. Нас загнали в зал, руки в наручниках, стоять, сидеть! Мы сидели и глядели на сцену. Медленно шел по доскам сцены этот слепой пацан; его под ручку вел дюжий, ражий дядька. Мальчик стоял посреди сцены, а дядька сел на стул и глядел, как бык. Ему вынесли балалайку. Он затренькал по струнам. Слепой вдохнул воздух и запел. Как он пел! Бать, невозможно передать. Он пел так, как твоя душа. Если бы твоя душа могла петь. Пока он пел, из меня будто вылилась вся кровь. И стал весь пустой и легкий. Все горе наружу вышло, и вся радость.
И вот этот тюремный ангел поющий вспомнился мне, а я на бродягу смотрю, думаю: да сквозь все эти свои язвы он ни в жизнь не запоет! нет у него будущего, кроме улицы, а я что, благотворитель, что ли, какой, покровитель детей-бродяг, их кормилец и поилец, а может, я просто потихоньку спятил там, на северах, давно людей не видел, детей не видел, кроме того мальчонки в зале, певца, он пел и глядел на наши бритые лбы, на наши руки в блестящих наручниках, – он и об этом нам пел! А дети, дети… Понял я, бать, почему вдруг посреди огромного города я стал видеть несчастных детей, и эти дети сами ко мне липли.
Осознал я, что вот у меня-то, у меня, после дурной болезни моей, детей, сто пудов, не будет.
Меня эта мысль как огнем сожгла.
А тут иду, и голову поднимаю, и в окне, на высоком этаже, над землей высоко, двое детишек: как два бесенка, из окна выглядывают! Я на ходу погрозил им кулаком. Мол, давайте, убирайтесь, с глаз долой! Что высунулись! Они дразнятся, мне языки вываливают. Вечер. Снег мелкий в лицо летит. И что там такое сделалось с этими детьми, то ли сами решились, то ли их кто сзади толкнул, то ли лишку перегнулись через подоконник, но сначала один ребенок выпал и вниз полетел, потом другой! Камнем падали. Я стою, остолбенел. Аж присел от ужаса. На улице никого. Ни души. Фонари горят. Синие, жестокие. Мертвенный свет. На земле, чуть заметенной жестким снегом, два ребенка лежат. Я к ним бегу! Добежал! Вижу: мальчик и девчонка. Брат и сестра? Да неважно! Хватаю их, трясу. Оба глаза уж закатили. У девчонки череп всмятку. Мальчишка еще дышал. Потом выгнулся в судороге. И затих. Я пытался нащупать пульс у него на шее. Бесполезно. Уже мертвый лежал. Рот раскрыл, как галчонок. Лет семи, восьми оба. Я башку задрал, кричу: люди! люди! тут дети разбились! Люди! Быстрей скорую помощь! Может, еще спасем! Вынимаю из кармана телефон, набираю номер. А телефончик, как назло, отключился. Того старикана телефон, с Центрального телеграфа. Окно на первом этаже распахивается. Бабенка высовывается, вся в бигудях. "И не стыдно вам так вопить?!" Я рядом с детьми приседаю, трясу их и еще громче кричу: "Дети разбились, вы слышите! Они умерли! Умерли!"
И тут из подъезда народ повалил; нас обступили; кричали; машины подъезжали, и скорая помощь подрулила; да я видел, напрасно это все, тщетно.
А потом в гостиницу еле доковылял. Так они у меня перед глазами и стояли. Зачем выпрыгнули? Играли с жизнью? Играли со смертью, катали ее, как клубок – коты? А может, их взял за шкирку, как котят, и в окно вышвырнул – кто-то? Кто? Бесполезно себя спрашивать. Я взял в буфете бутылку текилы, к ней лимон и ветчину, поднялся к себе в номер и долго, всю оставшуюся жизнь, пил эту текилу. Пил и не пьянел. Высасывал лимон. Грыз его. И челюсти не сводило. Ничего не чувствовал. Потом задал себе последний вопрос: а если бы это были твои дети?
И тут будто взорвался дикий свет перед глазами. Под черепом. Я аж зажмурился. Я на миг стал ребенком. Ну да, ребенком! Твоим сыном. Снова – мальчишкой. Еще до себя, воришки. Вроде бы я перед тобой стою. А ты, бать, во врачебном своем халате, в белом. И в белой шапочке. А руки у тебя в резиновых перчатках. А я так хочу, чтобы ты коснулся меня голыми, теплыми руками. Живыми. Родными. А ты трогаешь меня холодной резиной. Я стою, а ты сидишь, держишь меня за локти и коленями своими меня, как игрушку, сжимаешь. И смотришь мне прямо в глаза. А я голову пытаюсь от твоих глаз отвернуть. Да не могу. Я как занемел.
Затряс головой. Ты исчез, и я, мальчонка, исчез. Я открыл глаза. Текилы на донышке. Бра ярко горит на стене. Ковер вьет узоры. На казенном буфетном блюде валяется высосанный лимон. Я усмехнулся. Все лучше тюремной камеры. Вот вышел ты на свободу, парень, и опять за свое!
Голову вскинул. Напротив меня зеркало. Гляжусь в него. Какой ты парень. Ты мужик. Еще какой мужик, матерый. Брейся не брейся, лощеным уж не станешь. Не прикинешься господинчиком. А может, погулять?
И я, пьяный в стельку, затворил за собой дверь номера, напевая, спустился в лифте на первый этаж и мимо дежурной прошагал вон, на улицу – и ввалился внутрь ночной Москвы, как внутрь турникета падает грязная монета.
Шел себе, шел. Слегка протрезвел. Голова гудела, и вся жизнь гудела. Что мне еще покажут в жизни? Мне уже много всего показали. Столовой ложкой хлебай, ешь не хочу. Я уже и не хочу. Объелся. Покоя бы! Где он, покой? "На том свете", – весело сказал я себе и хохотнул. Я был прав. Так ведь оно и есть. Попробуй поспорь. Ты все отдохнем, когда умрем. А до того – вкалывай, мучься, уставай, бесись, не дадут тебе роздыху ни секунды.
Ядовитый акрихин реклам горел над головой, бился, пульсировал в прозрачных трубках дьявольский свет. Да, это дьявол надоумил человека сварганить такие вот ночные огни: вывески, буквы, цифры, фигуры, – вспыхивают и тлеют, а потом взвиваются опять то красным, то зеленым костром, на костре это поджаривают ночь, весь город, как яичницу, жарят на неоновой сковороде. Я шел, качался, хлопал глазами. Гнал мысли из-подо лба. Мне важно было не думать. Я там, на северах, в одиночке своей, обдумался. Удумался – на всю жизнь. Поэтому теперь хорошо было вычистить череп, вытереть изнутри досуха. Алкоголь хорошо помогал. Лучше любого другого снадобья. Иду, шатаюсь, напеваю! Ночные прохожие передо мной тоже качаются, они тоже пьяные, идут и на ходу едят блины, свернутые трубочкой. Вот шагает навстречу мне мужик дивный! Потрясающий! Синий плащ с наклеенными серебряными звездами накинут на голове тело, грудь голая под крупной брошью, курчавые волосы видать, а сам долыса бритый: голова-яйцо, как у моего дружбана Сухостоева. Сапоги высоченные, до колен, ботфорты, и, с ума сойти, со шпорами! И джинсы обтрепанные. И вся одежка. А на улице мороз. Я мужика глазами провожаю. Синий плащ у него за спиною вьется. Ветер синий атлас треплет. Вышагивает он в этих ботфортах своих важно, как гусь. Я хотел его окликнуть: эй, ты кто такой? прикид на тебе классный! да крик в себе задавил, и правильно, зачем унижаться. Я слишком хорошо понял, бать: в жизни никогда ни о чем не надо просить и ничего не надо выпытывать, каждый живет своей жизнью, и лезть в нее – глупо.
Кто его знает, этот синий атласный плащ? Может, он убийца. Может, спятил и не лечится! Может, внимание привлекает: как стало в ту пору модно говорить, пиар себе делает. Может, у него болезнь такая, температура тела высокая, и ничем не сбить, и он себя охлаждает, по морозу голяком шастает! Мало ли что. Много догадок. Не надо из них ничего выбирать. Дайте человеку свободу жить, как он хочет. И всего-то. Проще пареной репы.
Прошел мимо меня этот уличный царь в плаще на голое тело. Растворился в ночи. Рекламы играют надо мной. Ну как Сиянье. Мне даже почудилось: я на северах, и гуляю по снегу, по кругу, в колодце двора знаменитой тюряги "ПОЛЯРНАЯ ЧАЙКА", откуда нипочем не убежать, и вокруг стылая тундра, и под валенками снежок хрустит, как мелко перемолотые кости. Красивые дамы шли под ручку с красивыми господами; они шли из ресторана или в ресторан. Ночные заведения мигали огненными надписями, зазывали. Город жил ночной жизнью, она была гораздо интереснее дневной; пламенная, соблазнительная. Я про рестораны все знал. Я туда не хотел. Я и так был сыт и пьян, и нос в табаке. А, да, табак, надо курнуть! Встал под фонарным столбом, в круге света, чтобы сигарету и зажигалку видать, чиркал, чиркал колесиком, нет огня, нет опять, тьфу, незадача. Швырнул зажигалку в урну. А из-за урны выходят эти двое.
Старикашка, сгорбленный, скрюченный весь, кочерга живая, и как только движется, чуть ли не вприсядку, да идет, тащится еле-еле, – и рядом с ним девочка. За руку его ведет.
Я и забыл, что курить смертельно хотел. Глаз от лица этой девчонки не могу отвести. Знаешь, батя, какое лицо! Не лицо, а икона. Вру! Вру! Такая узкая, нежная дынная семечка. Какая, в черту, икона, там сплошной Восток! Восточная девчонка, за версту видать. Может, чеченка; а может, турчанка; а может, арабка. Какие арабки в России! Еврейка, как пить дать. А впрочем, сейчас ведь мир перемешался. Все теперь везде. Все народы, все люди. Никто не привязан к селенью и к дому. Все по планете ползают, друг друга взрывают. Тогда как раз такие годы начались, ну, ты помнишь, все везде взрывать начали. Люди обнаружили, что смерть – лучшее лакомство. И в ресторан ходить не надо. Лучший гипноз: снимает любой невроз. Лучшее воровство: ты украл сразу кучу невинных жизней, и значит, ты почти Бог, ты у Бога – Его самого своровал. И за пазухой держишь. И шепчешь себе: я владею вами, людишки, я один бессмертен.
Стою. В лицо этой восточной девчонке гляжу. И она глядит на меня. Безотрывно! У меня аж мурашки по спине поползли. Маленького такого росточка. Ну совсем крошка. А старикашка не хочет останавливаться, дергает ее: мол, вперед, вперед пошли, что застряла! Она руку из его руки вырвала. Стоит. Я делаю к ней шаг, другой. Хочу ее о чем-то спросить. Она палец ко рту прикладывает: молчи! Стою, молчу. Старикашка наконец тоже встал. Оба теперь на меня глядят. И я на них. Молча. Глупо так молчим, все трое.
И то правда, о чем болтать? Все выболтано уже. Сколько речей произнесено! Воздух от речей сотрясается и горит. А потом сгорает в пепел, и время, политое нашими щедрыми, взахлеб, речами, сгорает, и никому не нужны людские слова, слова. Наши мысли это тоже слова, но они хотя бы копошатся у нас в голове. Мы ими никому не надоедаем. А словами можно все-превсе сделать. Войну развязать. Оскорбить. Вылечить. Убить. Да, словом можно вылечить, а можно и убить. Козе понятно. Если скомандовать – всю землю можно убить одним словом. Приказ есть приказ. Все так и будет когда-то. Третья мировая? А четвертой не хотите?
Я перевожу глаза со старикашки на девчонку, с девчонки на старикашку, и вдруг я понимаю: это моя жизнь. Ну, эти двое, это жизнь моя. Будущая. Таким вот старикашкой я в результате стану. Время быстро полетит. А девчонка, это моя смерть. Смертушка! Красивая такая. Восточная принцессочка, пери. Глазки черные, огромные, ресницы богатые, она ими хлоп-хлоп. Нежная, изящная. По улицам бродит? Бродяжье платье ей даже идет. Лохмотья нищие, плохонькие. Я, честно, не упомнил, в чем таком она была. В чем-то бедном, замызганном. Тряпьевом. Не суть важно. Ее лицо, вот что было важно. Эти глаза все знали про меня. Эта улыбка.
Бродяжка смерть! Прошу тебя за дверью подождать. Ой нет, любовь, прошу тебя со мной – потанцевать! Я сделал шаг вперед и нагло взял мою смерть за руку. Ручка оказалась нежной, мягкой, очень гибкой, будто атласной. Рекламы неоном смеялись над нами. Скалили огненные красные зубы. Ночь обвертывала нас черным теплым мехом. Мороз щипал уши, серебрил брови. Старикашка, ну, значит, моя жизнь, зашамкал беззубо: "Я же чебе говорил, дурошка, мы опождаем! Наш же ровно в чаш ждуч! Некрашиво опаждывачь!" Мне хотелось пожалеть свою беззубую, беспомощную будущую жизнь. Как я того пацана, в язвах, кормил, так же мне хотелось накормить старика. Но они оба куда-то опаздывали. Я был им помехой. Может, это я для них был пьяным бродягой, а не они для меня? Все зеркально перевернулось. Зеркало, жизнь, перевертыш. Я вспомнил, как я перевернул зеркало, где отражались Славкины картины. И все в это поверили! И вот теперь я, бродяга, стоял перед моими царями. На ночной улице. В сполохах наглых огней. Никому не нужный. И это мне – у них – милостыньку надо было просить.
Моя смерть нежно держала меня за руку. "Эй, мужчинка, отчего ты такой печальный?" Она заговорила со мной! Она узнала меня! А когда она меня возьмет с собой, сейчас или потом? Да хоть сейчас! Да все равно! Я уже так часто видел ее в лицо. Меня не запугаешь.
"Я, это, знаешь, сам не знаю. Радоваться бы надо! Ну, что живой. А я вот грущу. Это негоже, понимаю. Да ты меня за это простишь. Простишь ведь? Не будешь наказывать? Не надо меня наказывать. И вообще! Никого! Ни за что! Наказывать! Не надо…" Черт знает, что я молол. Она все понимала. Глаза и рот ее улыбались. Потом улыбка погасла. Очень серьезно, тихо, тише летящего снега, она сказала мне, подняла голову и еще глубже мне в глаза заглянула, и я совсем в ее глазах восточных потонул: "Радуйся, я тебе говорю, радуйся. Ты просто радуйся и живи. Если сможешь, люби. Не сможешь – не старайся. Каждый живет, как может. Хочешь, давай милостыню, хочешь, нет. Пока ты жив, исполняй свои желания. Но не все. Не все! Есть плохие желания. Уходи от них. Убегай! Ты вот любишь новый год? Ну, елку?"
Я опешил. При чем тут елка? Морочит мне голову эта бродяжка! Скорей отсюда, делай ноги! Это восточное колдовство! Я догадался, это же цыганка, и она сейчас тебя взглядом к стене пригвоздит, ты сам, умалишенный, руки-ноги раздвинешь, она обчистит твои карманы, хохотнет и ускользнет, а ты очнешься через минуту, оглянешься туда, сюда, схватишься за голову, застонешь: горе мне! Какое, к чертям, горе. У тебя в карманах-то – последние сворованные деньги. Чужие деньги. Потрать их на нее. Без всякого колдовства.
Я кивнул: "Люблю". Девчонка опять улыбнулась. Ее улыбка горела ярче реклам в морозной ночи. "Елка, тебе надо снова научиться ее наряжать! Ты когда наряжал ее в последний раз?" Я опять онемел. Мысли цеплялись друг за дружку ржавыми шестернями. "Ну… в детстве…" – "Ага, в детстве, – выдохнула она. – Ты помнишь, что ты чувствовал, когда надевал на колючую ветку стеклянный шар? Или золоченые часы? Или серебряные шишки?" У меня губы тряслись. Я терял дар речи. "Нет. Если честно, не помню. Плохо помню". Она сильнее сжала мою руку. "Так тебе надо это вспомнить! Жаль, новый год прошел. Надо ждать следующего! Елка, знаешь, это же такой священный зеленый холм! Она стоит на кресте. Царица! Нарядная! Царская гробница. Под ней знаешь что похоронено? Время. Время! Ты слышишь меня?"
Я глядел обалдело. Девчонка раскинула руки, превратилась в живой крест и радостно крикнула мне: "Смотри! Я сама елка!"
Я твердил себе: ты перепил текилы, старик, у тебя скособочилась крыша, но это ничего, это все сейчас проветрится, а эти двое исчезнут навсегда. Пропадут из моей жизни. Канут во мрак. Их заслонит миганье реклам. Они сами станут рекламой: святой, безгрешной жизни. Елка! Это ж надо такое выдумать! Девчонка закрутилась, раскинув руки, на одной ножке. Елка вертелась. Колючие ветки весело торчали. Блестящие игрушки, золоченые, бумажные, серебро фольги, россыпи цветных бус, стеклянные тонкие травинки, картонные красные грибы на белой крашеной ножке, узорочье снежинок и обсыпанные блестками часы, их стрелки показывали без пяти полночь, розовые фонарики, с холодным огнем внутри, и настоящие восковые свечки, и уже языки живого пламени треплет метельный ветер, – а где же гирлянды, елку же надо обмотать гирляндами и их зажечь! Раз, два, три, елочка, гори! Какая ты красивая! Восточная, раскосая, перевиты жемчугом косы, зеленая парча колючая, густая и дремучая! Я шагнул вперед и обнял елку. Обхватил ее руками. Поймал. Крепко держал.
Как она выскользнула их моих крепких, тюремных рук, ума не приложу. Скользкая оказалась: как рыба. Клочки ее ветхой одежонки остались у меня в пальцах. Старик быстро заковылял прочь. Я оглядывался. Девчонка испарилась. Старикашка шел один, спотыкался. Ругался, еле удерживался на ногах и брел дальше. Где елка?! Зеленое веретено… Что толку оглядываться. Нет смерти. Нет. Она просто подразнила тебя. А может, ты будешь жить вечно. Вечнозеленое дерево украшают; наряжают могилу времени, правду тебе сказали. А новый год в этом году когда? А, еще год ждать!
Я ощутил, как загорелась спина. Будто кто-то мне куртку поджег. Обернулся мгновенно. Восточная девчонка стояла сзади меня. Она беззвучно хохотала. Зубы на грязном ее, смуглом лице сияли чистые и белые. Светились белым неоном в ночи. Реклама зубной пасты. Чисти не хочу. Я хотел схватить ее за руку. Она увернулась. Побежала от меня по ночной улице, и я удивленно глядел на ее босые ноги: пока она плясала передо мной в виде елки, с ее ног свалились старые дырявые сапожки. Она бежала босыми ногами по наледи и грязи, ее ступни становились красными, лед разрезал их, из нежных пяток текла кровь, она бежала, и я следил за ней, как она убегает. И я шептал только: вернись, вернись, ну прошу тебя, вернись, вернись когда-нибудь.
Батя, вот не ври мне только, ты же частенько думал о смерти. И сейчас ведь думаешь. Глядишь на меня и думаешь: а когда он умрет? Не тряси головой, думаешь! Да я и сам думаю. Но там, в тот вечер, я все понял. Смерть станцевала мне еловый танец, мазнула хвостом и унеслась. Погасла. Это означало: живи. И я стал дальше жить. Но о смерти стал думать немного почаще. И о себе тоже. Деньги заканчивались, надо было их красть. Чудом я не попадался; только чудом. Скажешь, Бог меня хранил? Да разве Бог такой дурак, что хранит воров? Он нас небось ненавидит. Всех прощает? Тем более, грешников? Ну, ну, слыхал я эту старую сказку. На самом деле, бать, никто никого никогда не прощает. Все помнят зло, что им причинили. Старые раны не заживают. Они всю жизнь гноятся. В особенности, если были заработаны справедливо. За дело.
Соседи
Хоспис
По всему коридору медной ладьей плыло биение часов: девять… десять… одиннадцать… двенадцать… – и в открытой двери палаты, как под крышкой кастрюли, клокотал, задыхался кипящий кашель.
Надсадно, надрывно, будто в последний раз, кашляла женщина, жадно ловила ртом воздух.
А может, и правда в последний раз.
Коридор пуст. Никто не спешил утишить одинокий кашель.
Поздний час. Слишком чисто вокруг, все блестит. Намыто, надраено. Или так кажется?
Ночью всегда все не так, как днем. Все – кажется.
Каморка кажется дворцом. Дворец – халупой.
Смирно висящая на стене икона кажется грозным, с тучами и золотыми молниями, окном в небесное безумие.
Женщина идет по коридору к женщине. Живая женщина – к умирающей.
Живая – главная здесь. Она раздает команды. Устала их раздавать.
Главный врач хосписа, ответственная за смерти.
За смерть.
Тучей за ней клубится, летит ее родная мошкара: медсестры, медбратья.
Они летят за тобою в твоем воображении, Заряна. Они тебе мнятся, снятся.
А по-настоящему ты одна ночью идешь по коридору, и тело твое, грузное, мощное, переваливают с боку на бок твои ноги-лапы, огромные, крепкие, как у мужика-дровосека. Иди, иди. Она кашляет слишком уж страшно.
Заряна вошла в палату, когда старая женщина, с белыми волосами, будто вьюгой обхвачен выпуклый, медно горящий под белизною лоб, выгнувшись на койке коромыслом, вертела головой по подушке туда-сюда. Будто хотела просверлить подушку мокрым горячим затылком.
Старуха чуть, узкой щелкой, приоткрыла глаза, приподняла железные веки и увидела другую женщину. Другая смутно белела в палате без света. Медленно двигалась от двери к ней.
– Прочь, – прохрипела лежащая, – уйди, сволочь… я не хочу тебя… не надо… не на…
Сволочь-смерть, проносились в ее мозгу последние слова, это за тобой сволочь-смерть пришла, а ты не хочешь с ней. Ты еще хочешь здесь. Вот тут. Кашлять и задыхаться. Но – не уйти.
Рано еще уходить! сегодня – рано! не хочу! не буду! не…
Лежит голая, сдернула с себя все до нитки. И как ухитрилась стащить? Халат валяется на полу. Трусы в ногах. Ноги худые, а живот толстый и отвисший. Когда-то был красивый. Художники ее голую писали. Вены на руках веревками вздуваются.
Белая женщина подошла к голой. Положила ей руку на лоб.
Губы белой шевелились.
Молитву читала? Успокаивала? А надо ли?
"Пока мы живы, мы успокаиваем себя. И друг друга. Что этого никогда не случится. Что это произойдет со всеми, но не с тобой. Не с тобой. Нет: с тобой, но не со мной!"
Голая разлепила веки. Смотрела на белую, и зрачки плавали.
– Сгинь, – отчетливо, вполголоса выдавила.
Белая отняла руку от влажного скользкого лба. Все сморщенное лицо лежащей старухи почудилось белой женщине громадной, покрытой зеркальной слизью улиткой.
Она хотела выбросить ответное слово из сжатых зубов – и не смогла. Слова кончились.
Люди вообще мало говорят. Особенно, когда приходит ЭТО.
Она, почему смерть – она? А как у других народов?
Смерть, память. Мать. Все очень близко, не разлепишь.
Белая села на край кровати. Взяла седую голову старухи в ладони, и голова тянула руки вниз, оттягивала, страшно тяжелая, дрожащая. Тихо, ты ее потревожишь. ЕЕ?
Ясно. Все ясно. Яснее некуда.
Ты же не первый раз видишь ЭТО. Зачем же ты плачешь?
Влага, мелкая, как древние дикие монетки, забытые, раскопанные в гробницах, в заросших бурьяном курганах, по-древнему, обычно и просто, страшно катилась по морщинистым щекам. Сама-то старуха уже. А туда же. Царить хочешь.
Уйти, уйти давно пора. Уйти отсюда.
ОТСЮДА?!
Нет. Не сейчас. На сейчас!
"Я должна проводить. Всех – должна. Но эту!"
Она подумала о лежащей цинично – "эта", как о поленнице дров, как о доске, о бревне.
Вещь. Человек – вещь в руках более Сильного. Сильный наиграется и бросит. И разобьешься. И все полетит в стороны, прахом и осколками – мечты, воля, дела, предметы, что старательно, потея, наработал; поцелуи, ссоры, дети.
Дети?!
Лежащая странно, угловато приподнялась на койке на локтях. Локти скользили, не могли хорошо упереться в матрац.
Белая, грузная, неловко, медленно натянула на голую холодную сырую простыню.
– Ты…
Молчание забило горло серой ватой.
Седая женщина под простыней угловато подняла колени-кочерги, и простыня приподнялась белой пирамидой. Повела головой вбок, и голова неуклюже скатилась с подушки. Тяжелая стриженая кегля. Здесь всех, кто пожелает того, стригли; раз в месяц.
Иногда те, кого стригли, плакали: последняя стрижка.
Лежащая под простыней попыталась поднять голову. Голова старалась заползти на подушку. У нее это не получалось. Тогда белая взяла голову голой и нежно, бережно положила ее в теплую пуховую ямину; и голова успокоилась, затихла, и глаза закрылись, веки чуть дрогнули.
Белая глядела на голую, и к горлу подкатывала тошнота.
Это был не каприз кишок. Не физиология. Ее мутило сначала от ясного сознания, а потом и от бессловесного чувствования того, что тут совершалось бесповоротно, навек.
У голой еще раз дрогнули веки, и она опять открыла глаза.
Глаза внезапно стали огромными, страшными, стремительно полетели, укрупняясь, впереди далекого лица, и так близко оказались с лицом белой, что она отшатнулась.
– Ты пришла…
Из горла голой старухи вырвался странный клекот, будто рвали жесткую плотную простыню на лоскуты, мощными руками, зубами. И хрустела ткань.
Голая попыталась выпростать из-под простыни руки. Руки уже стали такими дикими, слабыми, они прятались вдоль тела, по бокам, как звери в кустах, как змеи за камнями. Они понимали, что спрятались навек.
А глаза все летели впереди лица, и все увеличивались, и все расширялись.
Все страшнее и страшнее.
Белая встала с койки и отошла на шаг. Еще на шаг.
Она понимала, что никуда не убежит. Что ей суждено стоять возле этой койки всю оставшуюся ей, всю сужденную жизнь.
И страшно ей стало.
Она не захотела такой жизни.
Да ее никто не спросил.
Все вышло, как вышло.
"Что-то надо сделать сейчас. Что-то надо быстро, немедленно сделать".
И она быстро, мгновенно, будто ноги подломились и она упала, встала перед койкой на колени.
По простыне к ней поползли угрюмые руки. Смуглые, с обвисшей, сморщенной как выжатая мокрая тряпка кожей, темные на бязевой белизне.
И белая протянула по простыне руки.
Руки медленно двигались навстречу друг другу.
Проходили минуты, года и века.
Наконец руки встретились. Белая дернулась, как от ожога. Голая содрогнулась под простыней. Губы ее разлепились сырой, безжалостно смятой глиной.
– Ты… все-таки…
Она хотела сказать: "пришла за мной", – но не смогла, зубы блеснули за раскрытым в полуулыбке, полуплаче темным, запекшимся ртом.
Белая накрыла руками руки голой и крепко, горячо, больно стиснула их.
Так стояла на коленях, как в церкви перед иконой. Колени болели.