
Полная версия
Глубокий поиск. Книга 2. Черные крылья

Иван Кузнецов
Глубокий поиск. Кн. 2. Черные крылья
Роман
© И. Кузнецов, 2020
© Художественное оформ ление, «Центрполиграф», 2020
© «Центрполиграф», 2020
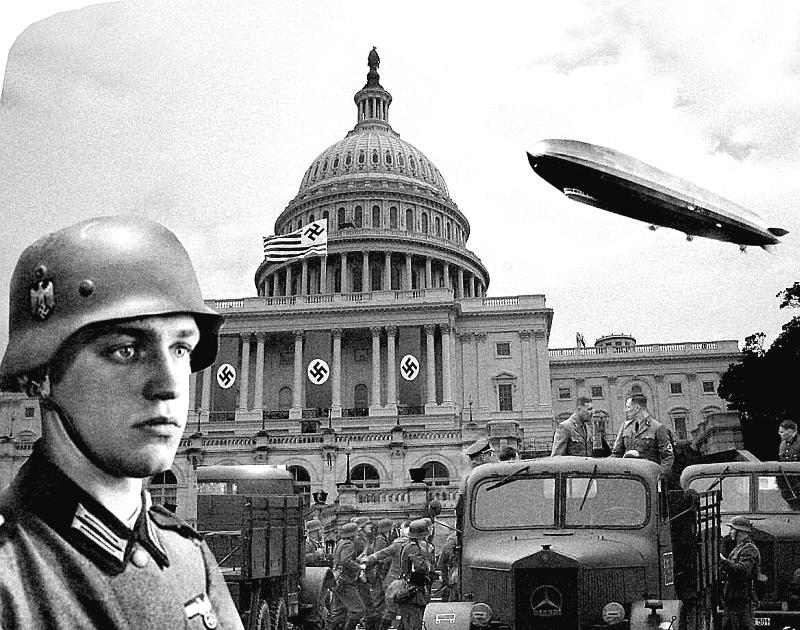
Часть четвертая
Разные горы
Узкое ущелье с голыми склонами. Лишь кое-где – низкие, кривые кустарники, пучки сухой травы. Извилистая каменистая тропа, едва припорошённая снегом. Она то расширяется, то сужается, то вовсе теснится среди громадных валунов и скальных выступов. Это, должно быть, русло сезонного ручья. Где подъём или спуск круче, камни норовят ссыпаться из-под ног и потащить тебя за собой.
Изредка сбоку открывается проход в другое ущелье. Вдруг справа – небольшая долина, буквально утопающая в снегу! Видно, что перевал в конце её весь перекрыт снегом. Особенность этих краёв: где гуляют ветра и палит зимнее солнце, снег не задерживается, а в ущельях и долинах, что прикрыты от преобладающих ветров, может и по пояс насыпать, особенно на тенистой стороне. Но мы выбираем сухие тропы.
Мой проводник не пояснял, куда и зачем мы идём. В общих чертах я представляла, где мы находимся и куда должны держать путь: товарищ Бродов познакомил меня с картами. Но конкретного маршрута и тот не знал: его проложил лично человек, спина которого сейчас маячила на шаг впереди. С момента нашего знакомства он произнёс всего несколько слов, но молчание, сопровождавшее нас в пути, не тяготило. Человек сливался с лёгким, прозрачным воздухом. Его мысли, его чувства, его энергетика были столь же легки и прозрачны. Вроде есть человек – а вроде и нет!
Ущелье кончилось внезапно, сделав неуловимый поворот. Вдруг открылась просторная равнина, такая же жёлто-серая и безжизненная, как всё в этих обделённых растительностью краях. Спускаться вниз, к долине, почти не пришлось, из чего следовало, что мы оказались на обширной поверхности горного плато.
Вот чего я уж совсем не ожидала: в тусклом свете облачного неба на равнине блеснули длинные металлические нити, параллельные друг другу. Рельсы! Они стремились к горной гряде на горизонте, издали похожей на цепочку холмов-курганов с округлыми вершинами.
Мой спутник приостановился, обернулся и впервые заговорил. Он сказал, что мы должны подойти к железной дороге, потому что по ней два раза в неделю проходит поезд. Сегодня день поезда. Мы успеем подойти без спешки и далее поедем до тех дальних гор.
Говорил со мной этот человек по-немецки. И я всё понимала! Впервые не на уроке, где частенько и путалась, и сбивалась, а в реальной обстановке я услышала и поняла немецкую речь. Он сказал:
– Теперь ты будешь слушать и говорить на немецком и тибетском. К концу нашего перехода ты будешь думать на этих языках и видеть на них сны. Русского с этого момента для тебя не существует. Да, кстати, можешь называть меня Гулякой.
Худощавый, жилистый, с правильными чертами узкого лица, этот мужчина мог бы понравиться мне, если бы не был постоянно «выключенным». За весь наш долгий путь я не видела, чтобы он нахмурился или улыбнулся. Даже когда он смотрел прямо в глаза, выражение его лица оставалось нейтральным.
Мы часа два сидели прямо на шпалах железной дороги. Гуляка кормил меня солёными шариками сухого сыра, сушёной мясной стружкой, твёрдыми галетами, в его вещмешке, на вид полупустом, обвислом, обнаружилась и вместительная фляга с водой.
Я ожидала, что мы начнём размахивать руками и тормозить поезд на полном ходу, как попутную машину. Но выяснилось, что у него тут, на совершенно голом месте, официальная остановка. Это, кстати, не означало, что он остановился: поезд притормозил свой и без того неспешный ход; желающие попрыгали вниз, а мы спокойно зацепились за открытую площадку и взобрались на неё.
Маленький чёрный паровоз тащил четыре или пять открытых вагонов: у них были борта в полроста человека и стойки, на которых держалась брезентовая крыша, а внутри – где деревянные лавки, а где и голый пол. Люди азиатской внешности сидели на полу на своих тюках и баулах. Пассажиров оказалось не так много.
Весь остаток дня, всю ночь и следующий день мы потихоньку двигались вперёд.
Оказавшись среди этих людей, мы помалкивали: мы же в Китае! Тут натянутые отношения с Тибетом, а с союзницей немцев – Японией – война. На каком же языке разговаривать?! Пассажиры вокруг галдели, хохотали, бранились, бросая друг другу реплики необыкновенно резкими, пронзительными голосами. Нас обоих окружающие не замечали, будто нас и не было вовсе. Могли протянуть кусок еды прямо над головой или, разыгравшись, кинуть друг в друга что-то, едва не задев. Мой проводник не обращал на вызывающее поведение попутчиков никакого внимания и совершенно ушёл в себя.
Итак, большое путешествие началось. Я теперь буду одна до той необозримо далёкой поры, когда оно закончится. И ни в какие паники, и ни в какую тоску впадать я не имею права. Особенно если учесть, что и прежде не была склонна терять присутствие духа, – так не время и начинать. И всё же: какой ледяной ветер пронизывает голые пространства, как одиноко и жутко в мире, наполненном совершенно чужими людьми…
«Запомни: ни на час, ни на минуту ты не останешься одна. Я и девчонки – мы всегда рядом. Никто из нас не сможет забыть о тебе ни на минуту. Даже если случится, что не почувствуешь, – просто знай. Понимаем?»…
Я прислушалась. Молчаливое, пустое пространство не доносило ни единой весточки. Самой выходить на связь с девчонками мне было строго запрещено, пока не окажусь на месте назначения и не сориентируюсь как следует. Мысли и чувства отошли, как облачный фронт, голоса попутчиков, говоривших на непонятных языках, слились в общий отдалённый гул, сознание парило в пустоте.
Сознание ли свободно летело в пространстве, или пространство парило в сознании, всё расширяясь, – только в самой середине этой пустоты обозначилось что-то лёгкое, тёплое и нежное, как пухлая пряжа, собранная в горсть, как птенец, трепещущий в ладони. Ни образов людей, ни передаваемых мыслей не возникло, но я поняла, а точнее, я просто знала: это привет от моих товарищей передан прямо сквозь сердце, минуя все слои и уровни сознания, и моя душа отвечает через тот же канал связи – сердце.
Я не контролировала транс настолько, чтобы определить, сколько времени он длился. Да и время в пустынной степи воспринималось совсем по-другому, нежели среди привычной цивилизации. Оно то вяло текло, то вовсе останавливалось.
Уже почти придя в себя, но ещё не открыв глаз, я проверила: не окружает ли меня облако из мыслей или образов, содержащих информацию, которой никоим образом нельзя «засветить», то есть выдать случайному постороннему наблюдателю. Меня натренировали так, что подобные самопроверки стали привычной практикой. Нет, всё в порядке: окружающее пространство чисто. Только в сердце – тёплый родничок нежности. Но сердце – надёжный канал, оно не выдаст, если честно прислушиваться к нему и не давать воли фантазиям.
Теперь я поморгала и огляделась. Попутчики большей частью дремали на своих тюках, сгущались сумерки, приправленные клубами паровозного дыма. Шевельнувшись, я заметила, что резкий ледяной ветер, игнорируя одежду, пробирает до костей. Мой провожатый, сидевший скрестив ноги и едва касаясь спиной борта вагона, беззастенчиво изучал меня. Странно, что я раньше не ощутила пристального взгляда!
– Хорошо, – едва слышно прошептал он по-немецки, наклонясь к самому моему уху. – Медитируешь хорошо. Теперь спи.
Не передать, как было приятно получить одобрение такого человека!
Чувство одиночества стало менее беспредельным.
Уже в предгорье на остановке в большом селении мы вышли и незаметно скользнули за домами и дворами в узкое, заросшее густым кустарником ущелье. Пройдя едва заметной тропой сквозь эту длиннющую щель в горном хребте, мы оказались на очередной равнине. За очередным горным выступом внезапно обнаружилось то, чего я никак не могла ожидать: снова рельсы железной дороги! Неприметная узкоколейка начиналась прямо тут, где заканчивалась едва обозначенная в твёрдом грунте колёсная дорога. Более того: за грудой камней оказалась ловко спрятана маленькая дрезина. Гуляка поставил её на рельсы и, легко раскачивая длинный рычаг, заставил платформочку бежать вперёд.
Долго мы так ехали в молчании сухими долинами сквозь предгорья. Покинули мы дорогу, не доехав до её конца. Похоже, она вела к выработкам каких-то полезных ископаемых. Но ископаемые нам не требовались.
Мы пешком двинулись к перевалу. Я почему-то ждала, что за перевалом местность изменится: будет молодая зелень, первоцветы и тёплый, нежный ветер. Однако не только за этим, но и за всеми последующими перевалами ничего не менялось: голые камни, морозные утреники, изнурительный ледяной ветер от рассвета до заката. Лишь на некоторых перевалах – не иначе как для разнообразия – приходилось пробираться через довольно глубокий снег и любоваться на убелённые склоны.
На ночь мой провожатый ставил крошечную палатку. Когда эта палатка впервые появилась из его вещмешка, вечно обвислого и казавшегося полупустым, я наконец догадалась, что он нарочно применяет такой вот хитрый трюк: на самом деле мешок просто огромен и за счёт этого кажется полупустым, даже когда в нём полным-полно всякой всячины.
Тут наши занятия стали регулярными: день мы говорили по-немецки, день он тренировал меня в тибетском. В «немецкие» дни он много рассказывал об особенностях жизни и нравов в Тибете либо экзаменовал меня. В «тибетские» я лишь успевала зубрить слова и обороты, построение фраз. Ни разу, даже случайно, наша беседа не коснулась каких-либо личных тем. Я по-прежнему ничего не знала о нём, он не интересовался моей прежней жизнью. Оттого к концу каждого дня создавалось парадоксальное впечатление, будто он проведён в молчании.
Тем временем дорога привела нас на равнину. Здесь изредка встречались человеческие селения. В целом мой провожатый старался обходить их стороной, однако иной раз нарушал правило: заходил пополнить запасы еды. Меня он оставлял за околицей, в отдалении от дороги, да ещё пристроив в какой-нибудь складке местности: за бугорком, камнем или в овражке. Меня с дороги не видно, и я ничегошеньки не вижу: приближается кто, нет ли? Лишь прислушиваюсь к звукам.
В первый раз было жутко. Сижу, прислонясь к большому камню, сторожко слушаю. То шорох, то вроде хруст осторожных шагов, то отдалённые голоса, то гул, похожий на глухое рычание…
По дороге стали часто попадаться пешие путники, а также повозки и телеги, запряжённые, как правило, быками. Лишь в виде исключения можно было встретить автомобиль. Но, заслышав звук мотора, мой спутник оперативно сворачивал с дороги, и мы прятались. Пару-тройку раз Гуляка нанял попутную телегу, чтобы подвезла нас, и мы покрыли таким способом большие расстояния.
Когда мы оказывались не одни, то хранили между собой полное молчание. Мой провожатый заводил долгий разговор с попутчиками, я же не встревала и оставалась будто немой.
Не помню дня, чтобы не палило солнце. Погода преобладала сухая. Тут удалось передохнуть от ледяных ветров, но каменистая местность оставалась по-зимнему безжизненной. Постепенно мы вновь стали забираться всё выше в горы. Стали наконец попадаться зелёные долины со склонами, покрытыми густой, как собачий подшёрсток, молодой травой. Однако поворачиваешь в новое ущелье – и там опять пронизывающий до костей ледяной ветер лижет голые, безжизненные камни.
Хоть местность выглядела суровой, тут часто встречались тибетские селения, в которые мы теперь без опаски заходили. Я старательно вслушивалась в разговоры, но чаще совершенно безуспешно. Похоже, в каждой деревне тут болтали по-своему. Однажды мы обсудили эту проблему с моим наставником, и он успокоил:
– На то и расчёт. Ты скиталась и не смогла толком освоить язык, поскольку в нём множество диалектов. В такой ситуации говорить тебе легче, чем понимать. Понимаешь ты сверхчувственным способом. Твой талант заменил тебе знание языка и помог выжить.
Кое-где на склонах лепились маленькие монастыри. Монастырей мы не посещали вовсе, а в селениях не задерживались до вечера, ночевали всегда только в палатке среди дикой природы…
Ночной холод пронизывал палатку с лёгкостью, будто её и не было. Свернувшись в тугой калачик, я мёрзла так, что зубы громко стучали.
Когда это случилось впервые, мой проводник обнял меня обеими руками, плотно прижал к себе. От его ладоней пошло тепло, которое быстро превратилось в настоящий огонь. Дальше включились предплечья, плечи, запылала грудная клетка, прижатая к моей спине. Жар исходил и от его ног. Я не просто согрелась – я вспотела, мне захотелось снять верхнюю одежду. В этот же момент жар стал слабее. До утра мне снилось, что сплю на хорошо протопленной печи, укрытая толстым ватным одеялом…
Ритуал согревания повторялся всякий раз, как я начинала отчаянно замерзать.
Удивляло то, что такой тесный контакт вовсе не приоткрыл для меня этого человека: ни особенностей его энергетики, ни чувств, ни желаний. Так продолжалось до самой последней нашей ночи в горах.
Лида зашла в кабинет. Лицо вытянуто в печальную гримасу, веки припухшие. Что за наказание! Бродов решил отложить дело, ради которого вызвал девушку. Хмуро потребовал:
– Садись!
Долго собираться с мыслями не пришлось: он и прежде планировал провести воспитательную беседу, если настроение у девчонок не пройдёт само.
– Лида, почему я две недели наблюдаю заплаканные глаза и красные носы? Сколько это будет продолжаться?
Бродов услышал, будто со стороны, резкий и злой собственный голос.
Девушка опустила голову не слишком-то покаянно, скорее упрямо: мол, сами знаете, зачем спрашиваете?!
– Ты – старшая. Ты должна сама переменить настроение и повлиять на Евгению.
– Я понимаю, Николай Иванович, – выдавила собеседница траурным голосом, – мы справимся, не волнуйтесь.
– Что значит «справимся»?! – возмутился Бродов. – Мы что, кого-то похоронили? Мы проводили нашего товарища на ответственное боевое задание. Это горе? Это беда? Нет, это – наша работа.
Каждая фраза выходила колючей, жёсткой. Он старался смягчить интонации, но никак не удавалось.
– Она – самая маленькая из нас, – сказала Лида тихо и непокорно, – мне жалко её. А Женька просто скучает. И Катя тоже: они дружили.
Приступ раздражения наконец удалось подавить.
– Если бы Тасе было на два года больше, ты не переживала бы за неё? – спросил Бродов мирно.
Лида вздохнула и, казалось, тоже пошла на мировую:
– Николай Иванович, мы же ничегошеньки не знаем, где она, как она. Когда она выйдет на связь, и настроение переменится.
– Может быть, она не выйдет на связь очень долго. Пройдут месяцы. Это же не повод пребывать в отчаянии… Лида, пойми… И Евгении объясни: вы не чувствуете Тасю, так как она надёжно экранирована. Но может случиться, что она мысленно прикоснётся к любой из вас в самый неожиданный момент. Вдруг ей понадобится поддержка, участие… Вы должны в любой момент стать для неё опорой – как только ей это понадобится. Поэтому вы не имеете права кукситься. Понимаем?
– Я поняла. Мы постараемся, – обещала девушка, поджав губы и скроив постную физиономию вынужденной покорности.
Бродов чувствовал, что обида на его нежданную отповедь не прошла полностью.
– Иди. Поработайте над своими настроениями. Иначе придётся привлечь вам в помощь Михаила Марковича. Свободна.
Обещание привлечь «в помощь» гипнолога – не столько угроза психологической свободе, сколько вызов: мол, на что ж вы годны, если сами не справитесь? Николай Иванович не сомневался, что в конечном итоге девчонки справятся.
Он обессиленно откинулся на спинку кресла. Не ожидал от Лидии проявлений своенравия! Угомонится, конечно. Она – надёжная, стабильная…
«Нет. Никуда не годится!» – внезапно решил Бродов и крикнул в закрывшуюся дверь:
– Лида!
Но девушка успела уйти. Николай Иванович, забыв про телефон, стремительно вышел в приёмную и приказал секретарше:
– Догоните Лидию, верните её сюда!
Секретарша убежала.
Бродов вернулся в кабинет. Он остался недоволен тем, как провёл беседу с Лидой. Недоволен потому, что нельзя говорить о чувствах неуважительно и зло, будто они являются проступком сами по себе, будто можно взять и заменить их на другие механически, как недослушанную пластинку на патефоне. Но он чуть не совершил ошибку похуже. Никоим образом не следует в таком деликатном деле передавать Евгении указания через подругу. Женя всё ещё надломлена. Если не поговорить с ней лично и по-хорошему, можно ненароком добить её. А надо, наоборот, помочь восстановиться.
Момент для беседы по душам – не самый подходящий: Николай Иванович очень устал за день. Но теперь деваться некуда: иначе девушки успеют всё обсудить без его участия и сделают свои, возможно, совсем нежелательные выводы.
В дверь заглянула Лида. Выражение лица уже не было ни подавленным, ни дерзким – только обеспокоенным.
– Лида, не надо Жене что-то говорить. Позови её ко мне. Я сам побеседую с ней.
Уловив переменившуюся интонацию начальника, Лидия одобрительно улыбнулась:
– Хотите, Николай Иванович, я поговорю с Женей от себя? Я не буду на вас ссылаться.
– Ну, это зачем ещё? – делано удивился Бродов. – С какой стати?
Понятно: Лида боится, как бы он не обидел Женю. Однако любопытно, как она станет выкручиваться с ответом.
– Просто… Чтоб вам время не тратить…
Так легко не отделаешься, дорогуша!
– А на самом деле?
Опять – склонённая голова, будто Лида собралась боднуть начальника лбом, дерзкий взгляд, тихий, с вызовом голос.
– Как вы объясните человеку, что не надо грустить, когда у вас у самого две недели тоска в глазах?
Дожили! Совсем распустились девчонки! Бродов нахмурился, сурово отчеканил:
– Лидия, не следует ничего сочинять! Зови сюда Женю.
Евгения явилась насторожённая: видно, подружка успела шепнуть ей какое-то предупреждение. Но Николай Иванович уже нашёл нужную интонацию: спокойную, весёлую, не нагнетая переживаний, а разряжая напряжённую атмосферу дней, прошедших после расставания с Тасей и переезда в Куйбышев. Убедил даже самого себя, на душе посветлело.
– Жень, Катю вы там сами подтяните. Действуйте личным примером, договорились?
Девушка энергично кивнула.
– И Лиду ты поддержи. А то я, кажется, её напугал. Хорошо?
Руководитель, таким образом, возвращал Евгении вдобавок к доброму расположению и доверие. Ей это было крайне важно.
Ну а с Лидией как же? С той проще. Уравновешенная, разумная девушка всё восприняла в целом правильно. Хорохорится для виду, но на самом деле на неё по-прежнему можно полагаться.
Я ещё ни разу не встречала человека, который был бы таким непроницаемым – или настолько прозрачным. Я не могла зацепить ни единого его чувства, ни намёка на переживание. Но и глухой защиты он не строил. Складывалось впечатление, что Гуляка постоянно пребывает в состоянии уравновешенной сосредоточенности. Он неуклонно делал дело и не находил поводов для малейших переживаний. Притом мысли этого человека, как ни странно, порой были мне совершенно ясны: «устроим привал», «пора перекусить», «впереди переправа через реку». Мыслей, не связанных с простыми задачами настоящего момента, вроде как и не возникало вовсе. Я беззастенчиво тренировалась на нём, но других открытий не сделала.
Тем большей неожиданностью стало для меня его поведение в последний вечер нашего долгого похода. Мы, как обычно, улеглись в тесной палатке, закутавшись в серые одеяла грубой шерсти. Как повелось с первой же из множества морозных ночей, он обнял меня со спины, чтобы согреть. Объятие его горячих рук было таким же прозрачным и одновременно непроницаемым, как его чувства и мысли. Негде разгуляться девичьей фантазии. Но внезапно мужчина резко зашевелился, тяжело засопел, стал грубо и беспорядочно хватать меня в разных местах. Лез под одежду и размашисто гладил – будто растирал спиртом. Я сначала пыталась деликатно увернуться. Он задышал мне в волосы и противно поцеловал в шею: не то клюнул, не то укусил. От отвращения я уже со всей силы пихнула его локтем.
– Ладно жеманиться, давай напоследок, будет что вспомнить! Ты ж хочешь! – уверенно заявил он по-немецки и добавил с тошнотворной похотливой нежностью, уж не знаю, на каком языке: – Целочка моя!
В темноте я никак не могла сообразить, где выход из палатки и как в него выскочить. Меня бы стошнило, если б не завизжала.
Так же внезапно, как начал приставать и лапать, он успокоился. Грубо бросил:
– Не хочешь – как хочешь. Подумайте, цаца!
Я поверила – что оставалось, и, вся дрожа от пережитого страха, осторожно улеглась, отодвинувшись от него возможно дальше – в узкий ледяной бок палатки. Так пролежала, может, пять минут, а может, час. Зубы стучали всё сильнее – уже не от страха, а от холода… или от отчаяния? Вдруг мой опасный спутник снова подал голос:
– Придвинься, обниму, замёрзнешь. Не бойся, не трону. Мне ни к чему силой. Я думал, ты… повзрослее.
Чтобы не замёрзнуть насмерть, я придвинулась. Он не обманул: больше не пытался меня трогать. А утром опять как ни в чём не бывало рядом со мной оказался бесстрастный, непроницаемо-прозрачный спутник. Только меня теперь тошнило при одном взгляде на него.
Прошли многие месяцы, прежде чем я осмыслила, что произошло между нами и зачем он сделал тогда то, что сделал.
Мы встретили по дороге много маленьких монастырей, лепившихся к высоким склонам гор или ютившихся на крошечных уступах, на плоских вершинах утёсов. Этот же был слишком велик, чтобы карабкаться по отвесным кручам. Он вольготно расположился на плоской, приподнятой части очень широкой горной долины. На фоне ярко-зелёной луговины нарядно смотрелись приземистые, крепкие стены цвета красной глины и возвышавшиеся над ними многочисленные строения – красные и белые вперемешку. Никаких украшений вроде пёстрых флажков. Строгие линии, чёткие контуры, прямые углы. Я медленно привыкала к архитектурной простоте тибетских построек и прилежно искала в ней красоту.
Мы направились прямиком к калитке в ограде монастыря. Мой проводник сосредоточенно молчал, но и без слов стало ясно: вот она – финальная точка нашего маршрута.
Гуляка постучал и назвался в ответ на строгий оклик из-за калитки. Должно быть, монах знал не только его имя, но и голос, так как немедленно открыл и впустил нас внутрь. Я мельком оглядела наголо бритую голову, мантию того же цвета, что стена, окружавшая монастырь, лицо, в чертах которого прятался какой-то неопределимый возраст. Мне не полагалось глазеть с излишним любопытством на монаха-ламаиста. Тот же, напротив, очень откровенно удивился моему появлению и разглядывал с нескрываемым интересом. Я приняла отстранённый вид – как не от мира сего. Не требовалось усилий, чтобы создать впечатление, будто я погружена в транс: я очень устала, я была порядком выбита из колеи неожиданной попыткой насилия со стороны своего спутника, и, кроме того, я изо всех сил старалась уловить смысл разговора, происходившего между монахом и моим провожатым. А говорили они на незнакомом диалекте, по-видимому тональном; понимала я с пятого на десятое.
Вначале привратник вежливо интересовался делами гостя, его маршрутами, планами. Мой проводник обстоятельно отвечал. Потом прозвучал вопрос обо мне. Я знала в общих чертах, каков будет ответ, потому разобрала его почти дословно. Подробно и путано Гуляка рассказал, где именно подобрал меня, умиравшую с голода и пытавшуюся заработать немного еды, беседуя на заказ с духами. Едва речь зашла обо мне, его интонации стали слегка раздражёнными, как будто он злился на меня за то, что испугалась его приставаний, и досадовал, что взял меня с собой в дорогу.
– Нет, девочка не впадает в экстатические состояния. Она – из тех, кто задаёт вопрос и слушает ответ, а потом пересказывает.
Не каждому хватало терпения выслушивать мой лепет на ломаном тибетском, но те, кто выслушивал до конца, – кормили щедро. Остальные подавали крохи – из жалости.
– Так что же, она действительно говорит с духами?
– Похоже на то, но я не проверял. Зачем мне? Сказано: «не тревожь духов всуе», верно ведь? Кажется, она и ясновидящая. Так говорили люди. Кому нужен ясновидец? У кого дела идут неважно, так? У меня дела идут хорошо.
– Зачем же ты взял её?
– Пожалел. Она бы не выжила. Её мать умерла, у неё никого не осталось.
– Не осталось родственников?
– Родственники если и есть, то их не найти: они где-то в западном мире, в Европе. Она не помнит, откуда родом. Говорит по-немецки – вот всё, что я знаю.







