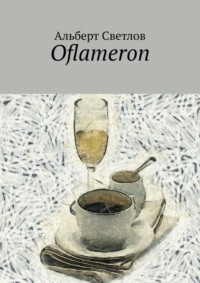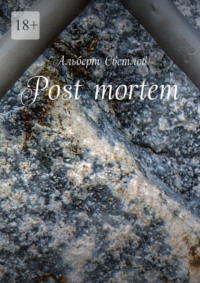Полная версия
Перекрёстки детства
Колька и являлся примеченным у деревьев типом, и теперь, подогнув болотники, покачивая спиннингом, возвращался с рыбалки. Побрякивала крышка порожнего зелёного бидона.
– Ага, – невесело пробормотал я. И пожалел, что не смылся раньше и вообще потащился сюда.
– И много? – спросил Налим и сплюнул в пену.
– Ничё, пусто! – кукольно пожал я плечами.
– Дык, ты неправильно ловишь. Без приманки не поймать.
– У-у-у… А чем приманить? – неподдельно изумился я.
– Дык, шапкой. Все ими таскают. Во, давай, покажу. На неё—то они хорошо прицепятся. Цапнут, а ты тащишь. А! Чего достану, половину заберу. Лады?
И Налим, стирая строчки об отчизне, аккуратно прислонил удилище к обрыву, опять харкнул, сдёрнул у меня с макушки вязаную демисезонную синюю шапочку с вышитыми красными оленями и лохматым помпончиком. Я отпрянул, уклоняясь, но убор уже перекочевал к Налиму. Колька склонился и макнул его в волны.
Я ждал, а Налим, расправив сапожищи, наклонялся и наклонялся, исследуя укромные уголки под скалами.
– Не, не парься, нету щас раков, лучше ночью их караулить, они на фонари идут. На! – он, выпрямившись, разочарованно шлёпнул на булыжник измочаленную тряпку, с которой текло ручьём, почти такую, какой у нас мыли полы. Без помпончика, он, видимо, задев за острый выступ и оторвавшись, сгинул на дне, где бледная лазурь глядится в луны.
– Колпак натяни, уши надует, – выпустив дым, кивнул Налим и протянул пачку, – будешь?
Я отрицательно помотал башкой:
– Не, не хочу.
– Тоже верно… Гы-гы-гы! Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт! – и гадёныш, загоготав, не оглядываясь и посвистывая, поднял удочку и, ловко поскакал в горку.
– Эй! – крикнул я ему вслед. – А шапка?! Меня убьют за неё…
Налим обернулся:
– Чё, «ашапка»? Не брал никакой «ашапки»… Хы-хы-хы! И ты меня не видел, и я тебя. А сдашь…!
Налим многозначительно погрозил кулаком.
– Сечёшь, «ашапка»? Я тя поймаю и…
Возле моей щеки пролетел окурок. Захрустела бурая полынь, задребезжал бидончик.
Я сидел на крошащемся колючем щебне, постепенно сознавая, – меня ожидает выволочка. И за измазанные бриджи, и за вымокшие носки, и за… Вечно в гадости влипаю! Ещё и раки… Тьфу, блин!
Вечерело, и матушка, вероятно, воротилась с работы, оттого, я с сырой и грязной ветошью в кармане, шёл на прямую расправу. Морось грядущей любви в поднебесье иссякла, одежда на пронзительном недобром ветру подсохла и выглядела отвратительно.
Лихорадочно соображая, удастся ли выкрутиться, представляя недобрую ухмылочку Налима, я решил прибегнуть к испытанному ранее способу.
Мама, узрев меня, мявшегося в прихожей, печатающего узкие влажные следы на линолеуме, отреагировала вполне стандартно.
– Это как называется? Где ты шлялся, свинья? Пошевеливайся! Ишь копается? И шапку испортил, дрянь! – принялась кричать она, повышая голос, словно под воздействием вращения невидимого рычажка, регулировки тембра, настройки эквалайзера, сдёргивая с меня одёжку и выворачивая из ладони шапчонку. – Признавайся, где шатался, скотина безмозглая?
– А-а-а! Мам, это не я, – понеслись мои завывания в ответ на её тычки и демонстрацию приготовленного для порки отцовского армейского ремня. – Это не я, я не виноват!
– А кто, кто виноват? Я тебе её изорвала?! Ты гляди, сволочь, что натворил! Тебе каждую неделю новую покупать? Я миллионерша, по—твоему? Обнаглел! От рук отбился! Твердишь, твердишь тебе, и никакого результата! Смертным боем лупцевать, да? Хлыстом, да?
– Нет, чесслово, не я! Меженин! Он шапку у меня отобрал, в лужу кинул и меня туда столкнул! А-а-а! Не бей! Прошу, мама! – увернуться не вышло, и ремешок, голодно щёлкнув, приласкал мои ляжки.
– Прекрати тень на плетень наводить? Снова Меженин? Очень удобно! – орала мать. – Хватит на Меженина шишки валить?
– Меженин! У пруда! В лужу! У магазина! Не вру! – жалобно скулил я.
– Может, и правда Меженин? – вступилась за меня бабушка Анна. – Ты слыхала, он маленьких часто обижает, то деньги отнимет, то стукнет? У Воропаевой Люськи-то внучке крапиву за ворот сунул…
– Меженин?! Не мели чушь! Я в школу завтра утром пойду разбираться, к директору! Пускай-ка, они там с этим Межениным поговорят, пускай! А ты, заразина, переодевайся, жри быстро и садись за уроки. Почему по математике «двойку» за «проверочную» не исправил, а? А в дневнике кто замечание лезвием подтёр? Меженин? У-у-у, ирод, наказание за грехи!
Убедившись, что гроза миновала, я, покуда матушка отправилась за порошком для стирки устряпанных мною вещей, сбиваясь, поведал баб Анне впопыхах придуманную историю, добавляя новые сочные подробности, лепя ярлык незрелых слов. Она слушала и осуждающе жевала беззубыми дёснами. А дед, заскочив к нам назавтра, сызнова наведался к Меженину, и весьма некстати застал его дома.
Неприятный случай забылся. Подростковая память избирательна, светлое припоминается легко и свободно, обнадёживая, даруя иллюзию счастливой и достойной жизни, а мерзость, совершённая когда—то давно, таится глубоко в подсознании, выскребать её тяжело. Время от времени его полагается встряхивать, перелистывать, подчёркивать, дабы не зазнаваться и не множить деяния, укорачивающие мгновения наши и окружающих людей. Всего лишь подпись под доносом о намеренно осуществлённом в институтской лаборатории гидравлическом ударе, направленном против «товарища Рудимента», способна обернуться роковым визитом преданного и проклятого друга. И уже не извернуться, сколь ни старайся. Но это в кино.
Да только ли в кино?
С тех пор, издали завидев Меженина, я, избегая сталкиваться с ним, сочащимся презрением, нырял в подворачивающуюся щель, в акацию, шарахался в проулок, торопился к своему палисаднику, студил сквозь пыль ледяные глаза.
Нежелательная, пугающая встреча состоялась внезапно, закончилась – непредсказуемо.
29
«Наш отряд, приветствуемый местным населением и гусями, несколько раз торжественно входил в село и уютно располагался среди его жителей»
Попандопуло. «История гражданской войны в сельской местности»
Лето сверкало, сияло и щедро расточало ультрафиолет, когда на безоблачном горизонте глумливой судьбы, среди коней, колосьев, кепок и косынок появились два новых человека. Первым стал Зяма, отсидевший в колонии для несовершеннолетних год за хулиганство. Редкостная гнида, сущее воплощение всего самого отвратительного и злого, мелкий бес, способный причинить крупные неприятности. Зяма приехал в гости к бабке, а затем и вовсе перебрался к ней жить от родителей—алкоголиков. Осел он на Почтовской нежданно-негаданно, и скоро заблистал эполетами генерала песчаных карьеров. Столь же неожиданно он потом и исчез, как—то в сумерках подколов финкой подвыпившего мужчину, ковылявшего из кино.
Зяма быстро объединил доморощенные подростковые отбросы и сколотил из них нечто вроде шайки, закономерно вобравшей в себя и Налима с Межениным. Днём эта компашка тусовалась на зяминой верандочке, откуда слышались музыка, крики, мат и глухой стук, то ли ломали что—то, то ли наоборот, чинили. А вечером они неузнанными мускусными овцебыками выходили на охоту, сшибая деньги у пьяных, избивая их в случае сопротивления.
Роста Зяма для своих 16 лет был среднего, чуть выше меня, и заметно крепче, мускулистее. Светлые жёсткие вьющиеся волосы благодаря короткой стрижке не прикрывали покатый лоб. Грязные кисти лап с наколками букв, на плече грубо выполненная синеватая татуха – оскаленная волчья пасть. Зямины серые глаза, узкие, словно щели ДОТа всегда щурились подозрительно, недоброжелательно и с угрожающей усмешкой. Щеголял он в заношенном синем спортивном трико и в распахнутой на солнцепёке, замазанной солидолом, безрукавке. Слова растягивал на блатной манер: ну-у, шке-ет, вали сю-юда!
И всё б ничего, поселись он на отшибе, в тупике, в проулке, в конце концов, мало ли у нас в деревне отиралось подонков, одним больше, одним меньше, не особо и критично. Но этот говнюк обустроился на полпути от маминой квартиры к дому бабушки, где мы обычно околачивались допоздна. Улица простилась с безопасностью, т.к. хорёк из кодлы, маявшейся на травке у зяминых ворот, обязательно выпрыгивал на дорогу и, просто ради удовольствия давал мне, или моему спутнику, оплеуху, затрещину. Пару раз Зяма лично перехватывал меня, останавливал и хватал за футболку:
– Ста-аять, фуфел! «Бабосы» есть? Гони полтинник за проход!
– Нет у меня денег… – отвечая, я помнил, что гордость – удел городов, и смотрел на его губы с коростой сбоку, тянущие фразы.
Я, и вправду, не имел монет, неоткуда им взяться у 13-летнего пацана – безотцовщины из не слишком обеспеченной семьи…
– А поискать? – и Зяма запускал пятерню в мои карманы, вытаскивал большим и указательным пальцем носовой платок и театрально фукая, швырял его в пыль, и едва я нагибался поднять, он, развернувшись, пинал мне под зад. Я закономерно падал, сбивая ладони о землю.
Зяма ржал, поквохтывая и щёлкая дорогой бензиновой зажигалкой.
Что мог я противопоставить ему, прошедшему огонь и воду, бывшему сильнее и старше меня? Я, заворачивавшийся от потерь в промозглые перины облаков, трусливый книжный ребёнок, не знавший битв и не умевший сражаться ни на мечах, ни на кулаках? Пожаловаться? Кому? Дети обитают в странном возвышенном замкнутом пространстве, зачастую не пересекающемся с приземлённым миром взрослых. Не хотел я и просить помощи, очень надеясь, что Зяме вскоре надоест меня третировать и он сам собой «рассосётся» в бесконечности. А он никак не «рассасывался»…
Причём, даже тормозя меня не в одиночку, а с кем—то из друзей, Зяма чаще обращал навязчивое внимание преимущественно на мою скромную персону, вызывавшую у него дикую и необъяснимую антипатию. Хотя, обождите, пожалуй, он пробовал докопаться и до Панчо. Но долговязый Панчо дерзко и хлёстко парировал его выпад, и Зяма, осклабившись, отступил.
Однажды, я за яблоком и стрекозой с радужной сеткой крыльев, направлялся к бабушке вместе с приземистым, по воробьиному вертлявым Бызей, белобрысым хохотунчиком из нашего класса, без умолку болтавшим и хихикавшим. Как назло, мы избрали не совсем удачное время для прогулки и, напротив кирпичной закопчённой кочегарки, перед нами внезапно материализовался, точно из воздуха, чёртов Зяма.
– Чё, до-одик, хочешь получи-ить? – и, не дожидаясь отклика, он легко двинул меня по скуле. – Кароч, в субботу бу-уешь у меня во дворе драться со своим длинным ко-орешом. (Зяма подразумевал Панчо) До крови! А кто проиграет, тому вло-омим. Ты поял?
– Понял, – тихо произнёс я, глядя снизу—вверх Зяме в переносицу, и аккуратно потирая покрасневшую щёку.
– Чё ты пони-ил, ка-а-зёл? – и он снова взял меня за воротник рубашки.
– … драться будем…
– И чё? Буешь, ще-егол?
– Да, – твёрдо и спокойно, вопреки внутренней дрожи, отозвался я, переведя взгляд на уровень его глаз и, думая про себя, мол, надо быть идеальным кретином, чтобы добровольно явиться к нему в ограду и изображать там гладиаторов на потеху уродам.
Зяма слегка удивился подобному повороту, ухмыльнулся.
– Хм… Ну ладно, тогда, па-ашёл!
И он попытался напоследок меня огреть, но я увернулся. Компания под окнами загоготала и заулюлюкала, а мы с Бызей рысью отбежали на безопасное расстояние, в тишину, создаваемую роком обстоятельств.
– Чётко он тебя, а! – восхищённо пискнул Бызя и потянулся к моему подбородку:
– Вот так, кажись?
– Ты—то чего лезешь? Крутой? – я отбросил его руку и, отвернувшись, ускорил шаг.
Жизнь сделалась мне не мила. Везде попадался проклятый кровосос с подпевалами, и приходилось под нестройное гоготание получать незаслуженную порцию унижений.
Взвесив и разложив по полочкам ситуацию, я постановил обходить Почтовскую, пробираясь к пункту назначения дальними закоулками. Существовало минимум три окольных пути, неунывающих, задиристых и вольных.
Предпочитаемый пролегал меж разлинованных картофельных гряд, и упирался в полутораметровый забор. Преодолев его, я оказывался за Бытовым Комбинатом, в саду, полностью заросшем крапивой и сиренью. Извилистая неприметная тропка, пересекавшая одичавший сквер, уводила к разваливавшейся изгороди с наполовину выломанными досками. Шмыгнув в дыру, она бежала к заболоченной речке, шныряла средь хлёстких ив и вековых загрубелых неохватных тополей, в чьих кронах, дразнивших молнии, виднелись тёмными кляксами грачиные и вороньи гнёзда. С десяток ворон, потревоженных чужаком, начинали орать и кружиться над деревьями, проливая шнапс из фронтовой фляжки, придавая этому мрачному месту зловещий колорит.
Выбравшись на обрывистый откос, я, сливаясь с гнилушками частокола, вслушиваясь в птичий гвалт, осторожно ступал скользким маслянистым берегом, стараясь не скатиться в гнилой вязкий ил. Метров через 50—60 я облегчённо выдыхал, т.к. опасная зона, а именно – участок зяминой хозяйки, подступавший к топи, оставалась позади. Пара минут и, еле видная стёжка, проскакивая выложенный камнями родник с прозрачнейшей ледяной влагой, от которой ломило зубы, расширяясь, выплёскивалась на Коммунарскую, к избе деда Николая. Добравшись до неё, я шагал далее без опаски.
Ещё один кружной путь вёл Калининской, неумолимо сталкивавшейся по перпендикуляру с Коммунарской. Выбирая его, я спускался к шаткому деревянному мостику, с торчащими из перил ржавыми шляпками гвоздей, и у книжного магазина сворачивал направо, топая до Коммунарской – авеню. Впрочем, описанный маршрут, не исключал свидания с Зямой на 100%. Он запросто мог шариться в районе Коммунарской – авеню и Калининской – стрит, обделывая сомнительные махинации.
Третий запасной вариант толкал к школьному парку. Его аллеи, напоённые вечным духом крушины, горьким и унылым, упирались в улицу Леонова, параллельную Почтовской, и ею я достигал бабушкиного огорода. Оказавшись возле жавшегося к колее плетня, я, вскарабкавшись на груду тёса, преодолевал его, попадая сандалиями прямо в ботву с картошкой, зарываясь ступнями и коленями в мягкий, прогретый солнцем чернозём. Это уже не играло роли. Главное, я чувствовал себя неуязвимым как Д’Артаньян и хитроумным как дон Кихот.
Упомянутые дублирующие дорожки крали драгоценные секунды, оттого, ощущая запах сонных лекарств, использовал я их не охотно и лишь при железной уверенности, что Зяма, наточив клыки, выполз из норы за добычей и перекрыл центральную трассу.
30
«Никогда не позволяйте своим друзьям садиться на неподкованную лошадь»
Бен Джойс-Айртон. «Коневодство в Австралии»
В июне деду получил письмо из города Лозового, от младшей сестры Марии. Она сообщала о намерении навестить его, избрав, наконец, игрушечный закон робкого удела круговорота сутолоки. Мария уехала в упомянутый южный степной городишко, по распределению, окончив строительный техникум в Губернске. Обустроившись, она обзавелась мужем и родила дочурку Галю. Десятилетиями родственники поддерживали вялую переписку, перезванивались и теперь, когда старший брат зазвал её в гости на пару недель, Мария, понимая, что они – люди пожилые и в силу возраста вряд ли свидятся, приглашение приняла. Попроведать нас она вознамерилась не в одиночку, а с внучкой, тринадцатилетней Леной. Галина, дочь Марии, в Лозовом вышла замуж за сослуживца, смуглого, белозубого деловитого азиата. Лена носила странно звучавшую фамилию – Хтоидзе, и отчество Томазовна. (Я с присущим мне злоязычием в шутку назвал её «Камазовной» и она, свирепо, по-женски, обидевшись, отправила меня в игнор без права на реабилитацию).
Первоначально, мы с Владленом не обратили на новость никакого внимания. Подумаешь, какая—то баб Маша с девчонкой! Ну, поживут дней десять, велика важность! Не мирового масштаба событие! Мне было однозначно не до приезжих, Зяма к тому времени вырос до размеров глобальной проблемы.
А ещё с началом каникул мы, расцветивши крыло попугая, случайно открыли для себя таинственную мансарду бабушкиного дома. Я и прежде пытался пробраться туда чуланом, по затянутой тенётами деревянной лестнице, ведущей вверх. Попытки мои не увенчались успехом, люк заколотили на совесть, и сколько б я в отсутствие взрослых не долбил в него молотком, ни налегал плечом, он не приподнимался ни на сантиметр.
На чердак удалось проникнуть совершенно неожиданно. К хате примыкали хозяйственные постройки, загон со стайками. Родители отца в течение десятка лет разводили разную живность. Помимо крупного рогатого скота водились у них индюшки и куры с петухом, пущенные под топор раньше прочих, хотя я и успел застать чёрную птицу и рыжего склочного кочета, редкостного задиру и драчуна, победно гонявшего меня по ограде. Вслед за пернатыми избавились от быка и коровы, а вот свиньи продержались в хозяйстве подольше. Они владели и лошадью, но незадолго до моего рождения её продали, о каурой жилистой коняге я знал по рассказам. Уздечка, седло, вожжи, медные колокольца хранились в заваленном отжившими вещами сосновом занозистом коробе в дальнем углу пристроя. Роясь в прозрачных венчиках фарфоровых цветов, в ворохе корзинок без ручек и истёртых до трухи половиков, чихая и кашляя, я наткнулся на упряжь и спугнул хлопотливых воробьёв в саду звяканьем сбруи.
С конца мая по сентябрь, покуда тепло не сгорало в пожаре предзимья, коровёнок на день отправляли под надзор пастуха Лёхи Мельника, пятидесятилетнего хромого мужичка, рассекавшего по Питерке на пегом коне и размахивавшего плетью. Утром Мельник уводил ораву в поля, поближе к лесу, а к закату препровождал обратно. Мы с дедом несколько раз прогуливались до околицы встречать нашу коровушку Марту, но в большинстве случаев, достигнув села, скотина сама разбредалась по дворам, останавливаясь и мыча у своих ворот. Хм… И как они запоминали, куда идти?
Стадо в Питерке насчитывало более сотни голов, ведь бурёнка для крестьянина, это не только молоко, мясо, масло, сливки, но и удобрения на огород. Марта радовала нас нежнейшим молочком, слегка сладковатым по моему мнению. Доили её вечером, предварительно протерев набухшее вымя, и струи с звонко били в дно блестящего ведра, обдавая белыми брызгами мои вязаные шорты с якорем, исцарапанные коленки и возмущённо подёргивающуюся спинку мордатого чёрно-белого кота Феди, тёршегося о галоши, вылизывавшегося, и тревожно наблюдавшего за процессом дойки. Никогда потом я не пил вкуснее молока, чем свойское, свежее, парное.
Израсходовать его всё мы, конечно, не могли, поэтому из излишков с помощью жужжащего, тугого ручного сепаратора изготовляли сметану. Она, чуть сжелта, придавала супам, борщам, соусам, подливам и куриным отварам неповторимый смак, помнящийся на протяжении века. Ложка застревала в ней, точно оловянный солдатик в сиропе, рискующий подхватить божественный насморк и бессмертный кашель. Представьте, мы мазали её ножом на хлеб и посыпали сахаром. Объедение, доложу я вам!
На хлеву держали запасы сена. Оно, ароматное, пряное, отборное, упиралось почти в шифер амбара, и не всегда удавалось влезть на тюки. Так продолжалось осень и в первую половину зимы. После сенокоса сухую траву утрамбовывая, набивали до стропил. А к весне оставалась примерно треть, неуклонно убывавшая, и в эти—то моменты появлялась возможность взобраться на сеновал, поваляться на колючих стеблях, пахнущих летом, пачкая с бледным рисунком тонкий батист, а заодно и проползти вглубь. Однажды я обнаружил, что с сенника прямо на основной сруб переброшены четыре неширокие доски. Осторожно ступая, я незамедлительно скользнул по ним и очутился над кладовкой, возле забитого крест—накрест люка.
В общем, место сие достопримечательностями не отличалось. Чердак, как чердак. Среднестатистический. Грязновато, темновато, окошечко на улицу невелико, в него едва башка просовывалась, по центру – уходящая ввысь, наружу, квадратная печная труба, вместо пола – слой шлака. Но он представлялся неведомым, счастливо разведанным мною миром.
Я вернулся на землю прежним путём, через хлев. А уже на завтра выяснил: наверх реально попасть и с веранды, вскарабкавшись, подобно скалолазу, по брёвнам стены дома, цепляясь за толстые гвозди, кем—то предусмотрительно в них вбитые. И спускаться тоже оказалось проще, – хватаешься за массивную балку, сучишь ногами, а затем разжимаешь пальцы и прыгаешь на пол. Я поспешил сообщить об обретении и Владлену, и друзьям.
Ни ругань, ни угрозы на нас не действовали. Мы втащили туда два сиденья и кучку книг, но читать из—за господствовавшего полусумрака получалось лишь у оконца. Частенько с нами тусовался и серый полосатый бесхвостый котяра Гаврик. Хвост ему прихлопнули в дверях в декабре, когда он застрял на пороге, не решаясь выскочить на мороз. Перерубленная половинка болталась на коже, и вскоре отвалилась, с тех пор Гаврик помахивал коротким обрубком. Зверюга символизировал уют, и любил дрыхнуть, развалившись, на свободном табурете, исполняя колыбельные и потаённые сказки.
Мансарда стала укрытием. Сюда не совались чужие, здесь царили спокойствие и убаюкивающая тишина, создавая видимость надмирного существования, вечности, парения над суетой. Ты – один, никто не тебя сыщет, не потревожит, часы, неразборчиво журча голосами, текут мимо, не задевают.
Пока развлечение было в новинку, под крышей набиралось сразу человек пять. Внизу, в комнате, от нашего топота, нарушая мёртвый сон обители глухой, в щели потолка на клеёнку стола, на свёрнутые вчетверо газетки, на треснувший футляр из-под очков, на перекидной календарь, перетянутый резинкой от трусов, в чашки с недопитым утренним чаем, в сахарницу с торчащей из белоснежной горки кристалликов ложкой, сыпалась зола. Отшвырнув сборник морских повестей, в сени выскакивал дед и до нас доносилось:
– Да еттивашу мать! Чего вы там, бляха-муха, сабантуй устраиваете? Серёга, альпинист бумажный, я те хлыста всыплю! Слазьте нахрен, быстро, все! Топочете, как медведи в цирке!
Шёпотом высказывались сомнения в его способности согнать нас сверху, но проверять спорное утверждение на практике, дураков не находилось. Вечно на чердаке не просидишь, рано или поздно придётся спуститься. Руку дедушка имел тяжёлую и скорую на расправу, рефлексией не страдал, и убеждаться в его педагогических талантах отчего—то не хотелось. Оптимальным вариантом являлось – сойти по—хорошему и, выбрав удобный миг, потихонечку снова подняться. Постепенно острота новизны ощущений у многих пропала, а я по-прежнему уединялся с упорством, достойным лучшего применения и, восседая на стуле в невесомых пыльных лучах золотой паутины света, согнувшись зверем в тесной клетке, размышлял, насколько же поганая штука – жизнь.
И действительно, ситуация виделась неразрешимой.
31
«Мама всегда говорила, что умение с выгодой обманывать мужчину, дорогого стоит»
Жильберта Сван. «Мои свидания с Марселем»
Приезжие появились в бабушкином доме буднично, обыденно. Хозяева не порхали всполошено и не кудахтали, протирая зеркала, полируя стаканы, роняя герань с подоконников и посуду с полок: «Идут! Идут! Они идут!» Ранним туманным утром того дня дедушка отправился в город, дабы встретить путешественников с автобуса, помочь им тащить сумки и доставить в Питерку. Баба Маша, естественно, не помнила, как добираться на малую родину. Дед заказывал междугородние переговоры, злясь на качество связи, багровея, напрягая жилы непробритой загоревшей шеи, надсадно орал в трубку, сдерживая мат, и втолковывал детали, а в итоге решил, что гораздо надёжней будет, если он самолично съездит на вокзал Тачанска и заберёт оттуда родню.
Когда они, звякнув щеколдой, разулись в сенях, проследовали, поскрипывая приветливыми говорливыми половицами во двор, я находился на чердаке. Он перестал быть для моих друзей тем притягательным местом, в котором хочется проводить уйму времени, а я стоически просиживал наверху по несколько часов, пристроившись у оконца с увлекательным журналом, гордо упиваясь смутным мерцанием брезжившего в лампадке одиночества.
Услыхав хлопанье тесовых ворот и негромкие реплики входящих, я, пасуя перед любопытством, неслышно припал к щели меж брёвен, с жадностью наблюдая за происходящим внизу. И разочарованно чертыхнулся, – гости, не задерживаясь, прошествовали в помещение, и вскоре сквозь потолок и слой шлака послышались неразличимые слова бабушки, Марии Ивановны и писклявые девичьи комментарии Лены.
Меня подмывало незамедлительно спуститься и глянуть на новеньких, но являясь крайне стеснительным подростком, я никак не решался это осуществить. Вот так с бьющимся сердцем, под аккомпанемент неясно звучащего «бу-бу-бу» я и сидел, похлопывая свёрнутой газеткой по коленке, в полюбившемся закутке, пока проулки гнулись зыбко, словно призраки, и баб Катя не вышла в коридор и укоряюще не произнесла:
– Чего ты там прячешься букой? Спускайся, поздоровайся хоть с людьми—то. Они ждут…
– Щас! – обрадованно пообещал я, и неторопливо направился к краю убежища. Цепляясь за гвозди, я с грохотом молодцевато спрыгнул на веранду, скинул сандалии и, отворив тяжёлую, обитую кошмой дверь, вошёл, смущённо, торопливо буркнул, заикаясь: