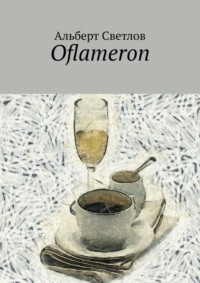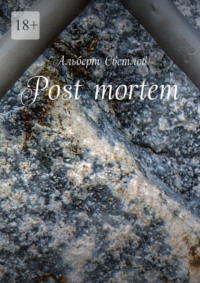Полная версия
Перекрёстки детства
Подноготная разыгравшейся драмы, наверное, не всплыла бы, не пощади Равёнок случайного свидетеля, кемарившего в момент убийства в помещении дежурки. Очевидцем преступления оказался Юрка Жбанов по кличке Рюрик, постоянно влипавший в разные передряги из—за своей неукротимой страсти к выпивке. Выбравшись с очередного застолья, он в тот злосчастный вечер, выписывая кренделя, проходил возле милиции, и завернул туда погреться, надеясь, что дежурит его «корефан», Васька Максимов. И не прогадал. Максимов, угостил Рюрика папиросой, напоил горячим чаем с кубиком рафинада и визитёр, согревшись, сомлел в кресле, за шторкой у вешалки. Разбудили его злые крики. Выглянув из закутка, Жбанов увидел, что отец с Иваном выходят во двор, а затем возвращаются, счищая с одежды грязь. Спустя несколько минут прогремели выстрелы, что-то хлюпнув, пролилось на пол, запахло металлом, звякнул бессильно докучливый телефон. Отдёрнув занавеску, к Жбанову с перекошенным лицом шагнул Равёнок и, ткнув Юрке кулаком в кадык весомо прохрипел:
– Пасть раззявишь – завалю. Хочешь жить – помалкивай! Мотай отсюда!
Жбанов вскочил, но рванувшись, зацепился за приступок, грохнулся на колени, и на четвереньках, подвывая, борясь с тошнотой и отворачиваясь, шмыгнул мимо тёмно-бордовой лужицы, наползавшей из-под неподвижного тела Степанцева.
По его словам, он сильно тогда напугался и, трясясь в ознобе страха, не сразу пришёл в себя. Юрка слыл бухариком, вечно сочиняющим высмеиваемые, не принимаемые всерьёз фантастические небылицы в стиле бредовых видений «белой горячки». Все над ним похохатывали, оттого Равёнок, вероятно, посчитал: Рюрику, даже, если он сболтнёт лишнее, не поверят. Действительно, рассказы Рюрика не могли уже ничего изменить, да никто и не хотел ничего менять.
Жбанова, частенько заходившего к нам в гости, я запомнил всполошным, поддатым мужичонкой, влачащим мрак пережитого, небрежно прикинутым и плохо бритым, пахнущим кислым вином и куревом, травящим байки и подмигивающим приятелю на предмет «вмазать». Выше среднего роста, плотный, он напоминал весеннего енота, весёлого и суетливого. К нам, детям, Рюрик относился хорошо, играл с нами пластмассовым конструктором и учил мастерить самолётики из бумаги.
Через два года после описанных событий сам Рюрик, попал, как всегда спьяну, в довольно неприятную историю, снова чудом спасшись. Случилось это в январе месяце, когда некто Николай Соколов, сельский алкаш, выйдя из привычного беспробудного месячного запоя и в хлам полаявшись с супругой, с которой не разводился, ибо уходить ему было некуда, собрался посмешить народ оцепенелый и укатить на заработки в Сибирь. Стребовав с жены 200 р. за то, что оставит её и ребёнка в покое и навечно уедет к Ледовитому морю-океану, он с Рюриком, считавшимся его непременным собутыльником, добрался до Тачанска, и в компании знакомых забулдыг пропил дорожные.
Две сотни бесследно растворились, поэтому Соколову и Рюрику пришлось вернуться. Жил Николай на горе за Светловкой, в районе роддома. К себе он и направился выколачивать из благоверной третью сотку. При сборах в тайгу Рюрик продемонстрировал Соколову кустарное охотничье ружьишко, смастыренное из дореволюционной берданки. И вот, покуда беспечный Рюрик, похрапывая, отсыпался, Соколов, присвоил оружие, замотанное в коврик. Недельный гудёж не прошёл даром, в голове у него переклинило и желание отомстить всему миру и ненавистной Ленке, не оценившим его, полностью завладело им. Квартиру Николай застал пустой. Елена Михайловна находилась на ночном дежурстве в больнице, а Егор, его 14-летний сын, сражался с друзьями в хоккей на льду пруда. Неожиданно столкнувшись с опять нетрезвым и вооружённым папаней, Егорка сунул обмотанную изолентой клюшку за холодильник и от греха закрылся в спальне, а рано утром, не гонясь за рифмой своенравной, убедил батю, мол, скоро звонок, пора идти на занятия. Вместо школы пацан рванул к матери, предупредить о нежданном госте, подстерегающем её. Соколова немедля позвонила в милицию, и к стационару подъехал участковый Харев, муж учительницы математики, Надежды Моисеевны. С ним в машине разместились Кузовицын и Ливанов, женатый на дочери тёти Клавы, младшей сестры бабушки Кати.
Выслушав Егора, Харев догадался навестить Рюрика, потрясти его и уточнить возможность наличия у Соколова огнестрела. Заспанный Юрка, помявшись диванным клопом, пустым человеческим трафаретом, понуро признался: вероятно, ствол у Соколова, таки имеется, но маломощная «пукалка» вовсе не опасна. Он, Жбанов, склепал её из древней железки, да и патронов к ней только около десятка. Услыхав о намерении собутыльника расправиться с женой, Рюрик, являясь человеком по сути бесхитростным и беззлобным, отважно вызвался урегулировать инцидент. Харев, справедливо рассудив, что ежели есть хотя б минимальный шанс отговорить Николая от опрометчивого шага, его нужно использовать по полной, прихватил мающегося похмельем Жбанова с собой.
Ещё в сумерках они с потушенными фарами подкатили к дому Соколова, вышли из машины и рассредоточились вокруг здания. Заранее обговорив действия, условились: сперва Жбанов, словно ни в чём не бывало, попробует побазарить со своим дружком, убедить его отказаться от уголовщины. Впрочем, планы их не осуществились. Злоумышленник не отвечал ни на стук, ни на окрики Рюрика, пробежавшего пару раз под тёмными окнами и уверившегося в итоге, что Николай заснул с двух бутылок коньяка, упомянутых Егором. Бесстрашный Юрка попытался проскользнуть в помещение, окликая приятеля, а следом за ним, стараясь не скрипеть снегом, с пистолетом крался Ливанов.
Отомкнув веранду ключом, взятым у Соколовой, Рюрик осторожно протиснулся во мрак коридора и, успев разглядеть направленное на него ружьё, с живым комочком пуха на металле, мгновенно шлёпнулся на пол. Раздался выстрел и шедшего вторым Ливанова зарядом дроби отбросило назад. Пока стрелок, матерясь, перезаражал одностволку, Рюрик на четвереньках выскочил на улицу и вытянул на крыльцо за воротник шинели раненого в нижнюю челюсть, окровавленного, Ливанова, а подбежавший на шум Харев, не целясь, «шмальнул» в темноту и захлопнул за Жбановым дверь.
Накоротко осмотрев и перевязав рану еле державшегося на ногах Ливанова, Кузовицын сразу же увёз его в больницу, а Харев притаился у калитки, надеясь договориться с разозлённым преступником, отвлечь его, потянуть время. Светало, и в проулке могли оказаться прохожие. Никто не брался предсказать, не примется ли он палить во всех без разбору. Кузовицын, вернувшийся спустя минут двадцать, обнадёжил Харева: из Тачанска уже выехала группа захвата и вот—вот прибудет сюда. Перепуганного Рюрика, познавшего дурных предчувствий красоту, прогнали в «газик», дожидаться развязки там.
Уломать Соколова по—хорошему не получилось. Примчавшаяся из города бригада, проникнув в кухонное окошко, скрутила, убаюканного разговором пьяного отморозка. Рюрик вследствие происшествия почти на год пропал из деревни, а затем снова вынырнул ниоткуда, тогда—то, по его возвращении, и поползли слухи, как на самом деле погиб мой отец.
19
«Скорость – понятие субъективное, и не всем доступное»
Клерфэ.
В день погребения отца с низкого, однообразно бесцветного неба, валил снег, вскоре таявший. Много снега. Накануне убитого привезли в родной дом. Гроб, обитый красной материей, разместили в главной комнате на трёх табуретах. Разбитую голову папы обмотали широкой повязкой, скрывающей страшную рану, но, всё равно, из—под неё, с правой стороны, у виска, виднелся чёрно—синий след ожога, и обезумевшие ходики над буфетом стонали о прошлом. На нём был недавно купленный костюм табачного цвета, в полоску, ладони сложены на груди крест—накрест и накрыты простынёй, доходившей до подбородка. Пока он лежал там, я лишь раз с содроганием подходил к мёртвому, испытывая при этом столь жуткую тоску, что, если б мог, полагаю, завыл бы по—собачьи.
Проститься, несмотря на промозглую погоду, пришёл самый разный народ. Преобладали мужчины в серых форменных шинелях. Подавляющую часть я никогда ранее не встречал, не представлял, кто они и почему вдруг захотели увидеться с погибшим, коли не бывали у живого. Они, не торопясь обходили вкруг усопшего, стянув шапки, ступая по голым половицам влажными ботинками, поскрипывающими сапогами, неприятно пахнущими сырыми пимами, и глядя на половики, а не на мертвеца, точно стыдились, чувствуя за собой невыразимую вину, наверное, и не существующую вовсе; вину за то, что, вот он, молодой, не уберёгся, а они старше, опытней, стоят возле него, изуродованного, и не в состоянии ничего исправить, отомстить.
После выноса покойника осталась тёмная дорожка, мокрая и грязная, и бабушка Аня задержалась вымыть полы и прибраться.
Во дворе мы потерялись средь дымящих папиросками, покашливающих группок. Заурчал грузовик, музыканты, неспешно шествовавшие за ним, сверкавшие казёнными медными тарелками, вычищенными трубами, осторожно, скупо, опасливо исполнили траурный марш Шопена, подминая еловые ветки, набросанные с автомобиля.
В грусти, унынии и давящем ужасе я, как в вязкий вермут губы окуная, и ездил на кладбище, куда нас везли в холодной и пропахшей бензином, еле тащившейся вслед за толпой, милицейской машине. Тело опустили в яму, и люди, шедшие по кругу, швыряли вниз комки слипающейся волглой глинистой почвы. Могильщики, закончив работу, упрятали выросший холмик под венки. Нас протолкнули поближе к покойному, дабы мы попрощались с ним, обойдя бугорок, меся жижу. Мама, в чёрном платке, натянутом на брови, постоянно плакала, снимая, и вновь цепляя на нос очки, без которых, и так—то растерянная и жалкая, казалась ещё более убитой горем. Она мяла пальцами тряпочку в сиреневый горошек, и её с трудом удалось успокоить и увести от могилы к опостылевшей нам служебной легковушке.
Дед, конечно, тоже находился здесь, но мне ярче запомнилась пронзительная реакция мамы, а не его, ведь я жался к ней, цепляясь за рукав её тоненького осеннего зелёного пальто с рыжим искусственным воротником. Кажется, дед первым бросил горсть земли, свободной рукой комкая ушанку и, вытирая ею слёзы. А бабушка, что делала она? Нет, сложно воскресить детали… Не она ли, когда третий плеснув, отзвонили звоночки, и молотки, вбив гвозди, погрузили недвижимого человека в вечную, отныне, темноту, упала, всхлипнув, на кровавую обивку?
Схоронили папу подле его сестры, Лидии. Спустя годы неподалёку под холодеющую сентябрьскую листву лёг и их отец, мой дед.
Похороны оказались двойными, параллельно с батей хоронили и застреленного в спину Степанцева. Покуда Рюрик не принялся распространяться об истинных обстоятельствах происшествия, вдова Степанцева, сталкиваясь с матерью по утрам, едва не плевала ей в лицо, кидая:
– Ну, не скребут кошки на сердце? Осиротили парня… Рады, ага?
Рассказ Рюрика, дошедший и до неё, привёл к тому, что Степанцева теперь просто отворачивалась, пробегая мимо.
Однажды, по окончании родительского собрания в школе, она догнала маму в коридоре и, пряча взгляд артистки с неудавшейся карьерой, скороговоркой произнесла:
– Зоя, ты прости уж… зря я Васю оговаривала… Кто же знает, как в реальности—то случилось…
И, не дожидаясь ответа опешившей собеседницы, развернулась и поспешила уйти прочь.
А тип, совершивший убийство, продолжал служить в милиции, и частенько заскакивал вместе с супругой в гости к бабуле. Я замечал, – дедушка держится с ним довольно прохладно, а мы с братом сторонились визитёра инстинктивно. Он отталкивал чрезмерной наглостью, бахвальством, и зловещей ухмылкой с провалами зубов. Рост он имел средний; на круглой, опухшей от запоев физиономии сидели близко посаженные, хитровато бегающие, мутные жёлтые глазки. Багровый с лиловыми прожилками шнобель свидетельствовал: его обладатель любит искать утешение и радость в спирте, впрочем, как и его супруга, впоследствии лечившаяся от алкоголизма.
Да, Равёнок отчаянно пил. Приходя и занимая у баб Кати денег, он нагло разваливался на стуле у окна и пыхтел тошнотворной «Примой». Подобный образ жизни на протяжении десятилетий не прошёл даром и в середине 90-х Ваня Равёнок, сожжённый эхом чужого крика, загнулся от рака. Не спасли его и лучшие московские доктора, к коим обращался сын, занимавший немаленькую должность в столичном МВД. Перед смертью Равёнок распух, словно зло, поселившееся в нём и причинившее достаточно несчастья, грызло кукольную оболочку изнутри, пытаясь вырваться наружу. Морфий почти не действовал, и порой он извивался от боли целыми сутками, сводя с ума родных. А мне безо всякого злорадства думалось: жернова Господа мелют медленно, зато верно.
Будучи взрослым, я услыхал от мамы, что, когда Равёнку оставалась неделя, она заходила его проведать в надежде на раскаяние, на просьбу о прощении, или хотя б намёк на признание греха. Однако, даже касаясь одной ногой адского котла, в пустынности удостоверясь, он ни словом не обмолвился о содеянном и, по—видимому, ни о чём не сожалел, по крайней мере, не выказывал и подобия покаяния. Что, заходясь в стоне, ощущая присутствие «безносой», сам он думал о произошедшем давным—давно, мне неведомо.
20
«Честная конкуренция позволила невидимой руке рынка переманить Буратино Карловича Поленного в нашу компанию «Негоро Интерпрайзис», вырвав его из цепких лап преступного сообщества К. Базилио и Л. Алисы.
Себастьян Перейро. «Торговля идёт лесом»
Упомянутые выше события повлияли на меня в гораздо более значительной степени, нежели первые годы школы. Вероятно, объясняется это их особой важностью, значимостью и эмоциональной окрашенностью. Не единожды я выслушал описание трагедии в исполнении матери и бабушек, и моё детское воображение услужливо рисовало мне сцену в дежурке с поскрипывающей дверью и застывшей пригаражной дворовой грязью. Память удивительно лабильна, и при определённых усилиях реальность минувшего подменяется его версией, выгодной манипулятору. Утверждение применительно к отдельным индивидуумам, и к целым сообществам, не говоря о странах. Однако если подмена личного прошлого человека приводит к драмам локального характера, касающихся непосредственно его самого, семьи, родственников, то, чем шире охват подобной манкуртизации, поглощающей гигантские людские группы, низводящей государства до уровня подобострастно дёргающихся марионеток, тем страшнее, катастрофичнее её плоды, и в пространстве, и во времени.
Из середины осени второго класса мне запомнилось, как мы после «Природоведения» собирали в коллекцию облетевшие с деревьев листья, шуршащим ковром покрывавшие неизмеренные далью и душой широкие центральные аллеи и загадочные потайные дорожки сада. На акации они ещё трепыхались редкими живыми, болезненно просвечивающими тельцами, большинство уже напоминало ракушки с резко выделяющимися красновато—жёлтыми или своеобразно буроватыми прожилками. К началу сентября тут завершили ремонт изгороди и снятые жерди, подгнившие столбы с крестообразно торчащими изувеченными мшистыми обрубками, усеянные осенними узорными кляксами, грудой лежали поблизости от памятника сельчанам, погибшим на полях Великой Отечественной. Едва я вскарабкался на кучу отсыревших реек и потянулся за ярким бордовым кленовым великаном, пристроившимся сверху, мой сапог соскользнул по влажной деревяшке, и я, начав падать, благополучно наткнулся ладонью на высунувшийся из верхней палки ржавый гвоздь. Ладонь оказалась проткнута в центре, дырочка была не сквозной, но рваной, её сразу стало пощипывать. Крови, кстати, выступило на удивление мало. Испугавшись, продолжая сжимать собранный багряный букет, я поскорее побежал домой, вымыл руки с мылом, а затем, шипя от боли, прижёг ранку раствором йода и замотал чистым платком. Мама, больная бессонницей зябкой, вернувшись с работы, наложила мне нормальную повязку и отругала за безудержное и неосторожное шатание, где попало. Рана от грязной железяки заросла без последствий, а происшествие не забылось. Саднящий и сочащийся сукровицей небольшой разрез посреди ладошки, дремлющие, холодные бледно малахитовые и розовые листочки, аквамариновое манящее небо, синие сапожки, оранжевая курточка – вот один из сгустков ощущений и переливов дробящихся оттенков, притаившихся в омутах Светловки, навечно связанный с ранним периодом учёбы.
Играя в свои незамысловатые игры, мы с топотом и боевым ирокезским кличем неслись в направлении директорской, находившейся слева от главного входа, и пробегали мимо каменной, ведущей на второй этаж, лестницы с коричневыми неровными сучковатыми деревянными перилами, по которым отчаянно фокусничающие ловкачи умудрялись кататься, за что, будучи схваченными, получали непременный нагоняй от завуча и вызов родителей на комиссию, и с серыми ступенями, разлинованными стёршимися от количества спешивших по ним подошв, рисунками.
Справа от кабинета директора размещалась просторная и светлая учительская с длинным раздвижным полированным столом и рядом мягких стульев. Всего через пару шагов, у «Алгебры»/«Информатики» в полутьме закутка на стене висел, каллиграфично выведенный и плохо разбираемый мною из—за слабого зрения, график уроков. Для уточнения занятий на следующий день я старался выбирать момент, когда у расписания отиралось поменьше народа, ведь мне требовалось фактически уткнуться носом в закрывающее его стекло. Только так я одолевал строчки.
Коридор, ведущий к пожарному выходу, поворачивал, минуя канцелярию с дробно стучавшей по клавишам печатной машинки секретаршей, похожей рыжими кудряшками на героиню Крючковой из «Не может быть», лаборантскую «Физики», где помимо прочего хранили киноаппарат, и примыкавшую к нему аудиторию. Не вполне привычную, надо отметить: за порогом возвышался помост с четырьмя партами, обращёнными лицевой стороной к слушателям.
В дальнем углу, не за три квартала и не за тридевять земель, располагалось аккуратное квадратное фанерное окошечко для демонстрации учебных кинофильмов, запиравшееся изнутри на крючок.
С улицы рамы предохранялись решётками, а окна в случае сеанса задёргивались тяжёлыми васильковыми портьерами, цеплявшимися за прибитые под потолком, копьевидные гардины. Доска имела нестандартный тёмно—зелёный цвет. Над ней, у антресолей болтался экран, свёрнутый трубкой, по ситуации разворачиваемый вниз. К каждой парте крепились электрические розетки, правда, не подключённые к сети. Они бесполезно занимали место, мешая раскладывать учебники и тетради, бредить речкой и луной.
Иногда здесь крутили фильмы не по физике, а, например, по литературе. Заигранные, чёрно—белые, рябые копии эпизодов «Войны и мира» Толстого, гоголевских «Шинели» и «Записок сумасшедшего», документалок по гражданской обороне и военному делу, химии и географии, биологии и истории… Я любил эти показы, проводившиеся, к сожалению, не часто, зато сопровождавшиеся магической атмосферой чуда, звуком стрекотавшего за стенкой аппарата и возможностью, не таясь, протянуть волшебную невидимую нить и упоённо подглядывать, развернувшись боком, в мелькании узкого луча, за обожаемой мною Снежкой.
Сумрак позволял плевать жёваной бумагой из трубочки, стрелять алюминиевыми пульками при посредстве тончайшей резинки, надеваемой на указательный и большой пальцы, и писать записки, не опасаясь схлопотать замечание в дневник и получить взбучку от матушки, взбешённой ехидно-нравоучительной учительской поэмой на пол-листа с неизменным приговором: «Поведение – „неуд“!»
21
«Втереться в доверие к человеку – не такая уж и сложная задача. Немножко показного сочувствия, создание иллюзии общих интересов, фальшивой заинтересованности. И, как можно меньше, говорите о себе. А потом, делайте с ним всё, что хотите»
Провокатор Клаус. «Как завести и развести друзей»
За кабинетом физики на второй взрослый этаж устремлялась ещё одна лестница made in heaven, а справа от неё во двор вёл запасной проход. Невысокие двойные щелястые двери его закрывались не прочно, хлопали, поэтому зимой из тамбура несло холодом, ощущавшимся в помещении. Здесь утром тоже бдили дежурные, чьей главной задачей, я уже упоминал, являлось не пропускать внутрь, в смятенье мира, в тлен и безобразность, учащихся в уличных башмаках. Некоторые особо отчаянные птенцы гнезда научного исхитрялись, проявив изобретательность и чертовскую изворотливость, проскочить, и очумевшими кенгуру прыгали наверх. Ежели таких ловкачей не перехватывали сразу, в погоню никто не пускался. Впрочем, подобные случаи, происходили, в основном при отсутствии среди дежурных учителя или завуча. Старших покуда побаивались, они знали наизусть имена и фамилии большинства отпетых сорванцов, и со звонком очень просто могли заявиться в аудиторию, где занимался класс с просочившимся нарушителем режима, дабы с торжеством и отеческой грустинкой к нему обратиться: «Голященко, покажи—ка мне сменную обувь!» Выяснив, что Голященко нагло восседает в заляпанных сапожищах, его благословляли и отправляли за чистыми ботинками, и возвращение грязнули с пробежки обратно в школу, если перед тем он не складировал в учительской тощенький портфельчик, находилось под большим вопросом.
Этой лазейкой я, пятиклассник, иногда пользовался, «отстреливаясь и уходя огородами» от соседа по парте, Федоскина, имевшего привычку измываться надо мной прямо на уроке. Федя Федоскин олицетворял тип банального гопника, получавшего наслаждение от возможности безнаказанно унижать слабых. Ниже среднего роста, худенький, юркий, скуластый блондинчик с длинными неухоженными волосёнками, спадавшими на брови, и стряхиваемыми на правый бок частыми судорожными дёрганьями головой, презрительно глядящий на свет пепельными рыбьими зыркалками, с изрисованными a—la tatoo кистями рук, пальцами с отросшими когтями, с истеричным и забавно, по—бабьи, визгливым, голосишком.
Он обожал, погрозив романтике старинной, осклабившись гниловатой улыбкой, пытливо заглядывая мне в глаза, прижать моё левое запястье к столу, вонзить в него ногти, силясь проколоть ими кожу до крови. Поступая так, Федоскин немного подавался вправо, норовя с упоением прочитать на моём лице отражение старательно причиняемой боли. Собрав терпение в кулак, сжав губы, я пытался усидеть с совершенно непроницаемым видом, и за редким исключением, это удавалось, отчего упырь впадал в бешенство.
Он подкладывал кнопки мне на стул, тыкал швейной иглой и противненько удовлетворённо щерился, обнажая жёлтые зубы, когда я, не сдержавшись, кривился. Однажды нервы у меня сдали, я, ища вещей извечные основы, схватил увесистый учебник литературы и треснул гада по макушке, увы, вполсилы, тотчас испугавшись столь опрометчивого поступка. Федоскин небрежно мотнул башкой, на гиеньей мордочке его появилась обычная паскудная усмешка, и он просипел, ухватив меня за пионерский галстук:
– Ну, хе-хе, готовься! Я тя сёдня урою!
Но урыть меня у него не вышло, ибо, попинывая камушки, поджидал он свою жертву у центрального крыльца, а я стрелой промчался к резервному выходу, скатился по ступенькам вниз, выскочил в распахнутые створки на волю и рванул изо всех сил домой. Стояла весна, на закованных в броню коры тополях, на забинтованных берёзках, хлипких кустах сирени и черёмухи появлялись зелёненькие молодые клейкие листочки, прозрачные тучки летели – не угонишься. Майский сухой ветер хватал за рукав, тащил за собой, в поля, к Светловке, а я, содрогаясь от мысли, что завтра опять увижусь с ненавистной тварью, смешиваясь с дорожной пылью, бешено колотящимся сердцем нёсся по проулку.
На следующий день издевательства продолжились, и не прекращались вплоть до летних каникул. А летом Федоскин уехал с родителями в город, и больше я никогда о нём не слышал.
Встретить бы…
22
«Я здесь. Я там. Я везде. Мяу!»
Кот Шредингера. «Этот чёртов ящик»
Пройдёт много лет и, распластавшись на узких тёплых скрипучих половицах недавно выкрашенного шероховатого пола в комнате девушки, ещё вчера называемой мною невестой, ожидая от неё вынесения приговора, я, не созданный для драк и споров, вспомнил один из дней детства, когда мною овладело аналогичное чувство отчаяния. Стояла такая же манящая весенняя погода, разлившая над головами глубокое и недосягаемое небо, бесконечное и вызывающее необъяснимую безысходность.
В первую жаркую майскую субботу я вернулся из школы, застав квартиру нашу, размещавшуюся в большом, бревенчатом здании дореволюционной постройки, вплывавшем в дождя и памяти круговорот, принадлежащем до Гражданской войны упитанному деревенскому священнику, и позже разделённом на четыре отдельных помещения, запертой. Тонкий ключик от замка, хранимый под цветным плетёным ковриком у порога, мама почему—то не оставила в привычном месте, а прихватила с собою на кладбище, куда она, бабушки и дед отправились в связи с именинами отца. Бросив на огороженную перилами веранду коричневый портфель с дневником, тремя учебниками, тетрадками, и с выведенным на боку примером «2+1=?», я, безрезультатно обшарив в поисках отмычки углы и щели, и испачкав при этом пылью школьный пиджачок и брюки, отряхнулся и, болтая ногами, уселся на лавку, прикидывая, чем отпереть чёртов запор.