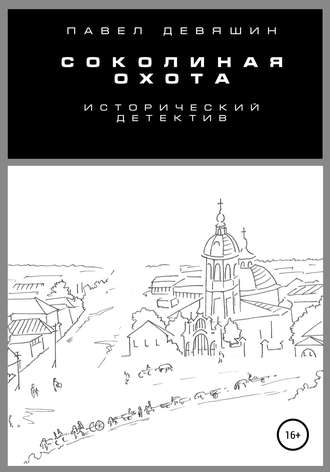
Полная версия
Соколиная охота
С физиономии управляющего не сходила кривая ухмылка, столь гармонично дополнявшая колючий взгляд, что впору самому ему было взойти на подмостки и предстать перед публикой в образе картинного злодея.
– Точно так-с. Ныне Государь пожаловал ему действительного. Так вам приходилось слышать про Николая Алексеевича и его «прожекту»? – подивился отставной штаб-ротмистр.
– Знамо дело! К слову сказать, у них там ставят весьма недурные водевили. А вы что же, стало быть, думали, мы тут все темнота деревенская и в городах не живали? Нехорошо-с, Иван Карлыч, право!
– Что вы! – молодой человек с ловкостью дворцового интригана изобразил смятение. – Просто я полагал, что подобными развлечениями только мы, питерские, тешимся, ан выходит…
– Может, и выходит, – осек его Владимир Матвеевич и махнул рукой. – Идемте, идемте, а то мы с вами и к утру не доберемся.
И все же, что за неприятный господин! По всему выходит, человек образованный, а гонору-то, гонору! Из характера таков иль, может, из одного только форса? Нарочно он, что ли, пытается преподнести себя этаким сухарём? Вырисовывался яркий, но противоречивый образ – «просвещенный грубиян».
Впрочем, Ивану Карловичу не раз и не два приходилось наблюдать в людях удивительные метаморфозы, производящие во всякой живой душе такие колебания, что после в ней способны были запросто уживаться качества друг другу прямо противоположные. Скромность и разврат, начитанность и дикость. Или как в этом случае. Высокая образованность, сопровождающаяся совершенно хамскими выходками.
Нынче в Петербурге, например, не редко можно встретить провинциальных юношей, сыновей мелкопоместных дворян и купчин, приехавших в столицу для учебы. На момент поступления в университет от них за версту несет уездом и деревней. Но уже через год, а много два из скромных, прилежных молодых людей, сиречь домашних и до чрезвычайности тихих мальчиков, получаются сущие львы. Поклыкастей даже местных. Да и куда там местным! Спроси такого: «Дозволите ли огоньком одолжиться?». Услышишь в ответ надменное: «Не имею, сударь, привычки к табаку». Ни тебе уважительного взгляда, ни благочиния. Нет бы, как надлежит сказать: «ваше благородие» и «табаку-с»! Так какое, всенепременно бросят: «сударь» и «табаку». Сам еще вчера из «Замухранска», а уж манера важная, будто весь Невский на него через лорнетку глядит.
Нужно ли говорить, меняет человека среда, в которую он себя помещает. А ежели возможна метаморфоза «из грязи в князи», так неужели нельзя допустить и обратное перевоплощение, когда «из князи в грязи»?
Так, быть может, и Владимир Матвеевич, живавший по собственным его словам «в городах», здесь, в отдаленном сибирском уезде, вращаясь среди крепостных, изрядно зачерствел. Извинителен ли в таком случае гонор?
Фальк попробовал представить себя на его месте, каково это управлять имением? Как сладить с мужиком? Да ведь, если хорошенько подумать, он и говорить-то с ними толком не умел. Не понимал их. Не ведал ни чаяний, ни нужд. Только иногда жалел.
Вот о чем размышлял в эту минуту молодой фехтмейстер, бросая взгляды на своего провожатого. Более он не пытался завести разговор.
Глава пятая
Пять минут спустя Холонев вывел их прямиком к едва приметным воротцам, что отворяли изящную невысокую изгородь, отделявшую службы от помещичьего особняка. До просторной, почти открытой веранды было буквально подать рукой. Десятка с два шагов. Всего только и оставалось миновать неизменно дивные, в особенности по весне, кусты сирени. Обрумяненные мягким светом, льющимся из окошек усадьбы, они синели пышной листвой и тянулись продолговатой тенью к неподвижной калитке. Потому со стороны дома Фальк и Владимир Матвеевич казались сущими невидимками. И захочешь, не больно-то углядишь.
Мужчины шли в полном молчании, упругий газон заглушал звук шагов. Не выдали их и воротца, не скрипнули предусмотрительно смазанные петли, не продали, благодарностью отвечая за радение. Они уже почти достигли крыльца, когда с веранды вдруг послышалась взволнованная речь. До слуха отчетливо долетало каждое сказанное слово.
– Ах, мой милый брат, как вы можете меня так неволить? – колокольчиком заливалась раздосадованная чем-то девушка. – Pourquoi vous m'insultez? (франц. «Зачем вы оскорбляете меня?»).
Ей вторил мужской голос, жесткий и сухой, преисполненный непреклонной воли. Голос, привыкший повелевать.
– Софи, ma chèrie (франц. «моя дорогая»), к чему ты вынуждаешь меня вновь возвращаться к этой теме? Мне казалось, мы достигли согласия. Право же, ты разочаровываешь меня, сестра!
Иван Карлович набрал воздуха в грудь, дабы учтиво покашлять и обнаружить себя, однако Холонев удержал его за рукав. Послушаем, мол, что еще скажут. С хитрой улыбкой он приложил к губам палец, да еще подмигнул, словно озорник, целящийся из рогатки в новомодную застекленную витрину.
Между тем беседа на веранде продолжалась с нарастающим пылом.
– Нет, я решительно не понимаю… и отказываюсь понимать, отчего должна я связать себя браком с человеком, которого совсем не знаю?! Это противно, пошло… противоестественно, наконец! Да и как же без любви? Ведь я не люблю его! И не нужно так супить свои брови! Ну, скажите же хоть слово, что же вы молчите?
Фальк поморщился, будто от зубной боли, и невольно втянул голову в плечи, ожидая, что в ответ на столь разгоряченную тираду немедленно грянет самый настоящий гром. Вот сейчас, сию минуту! Однако ничего подобного не произошло.
Невидимый собеседник разгневанной барышни, к чести всех мужчин, сумел сохранить завидное самообладание и произнес ровным тоном, спокойно, едва ли ни ласково, как только отец мог бы говорить с проказницей-дочерью, вздорной, дерзкой, но оттого не менее любимой:
– Причем здесь любовь! Ты пойми, Софи, Николай Спиридонович не просто какой-то там насквозь пропахший чесноком купчина. С брюхом до колен и бородой-веником. Нет! То представитель нового сорта людей. По-европейски – коммерсант. И основателен он совершенно по-европейски. Поосновательней будет даже городничего. Николаус составит тебе блестящую пару, моя милая, и укрепит весь наш род. Кстати, давеча на суаре я имел оказию говорить с ним. Любопытнейший, признаюсь тебе, вышел у нас разговор. Между нами, он делал тебе авансы. Ну, что скажешь, Софьюшка? – говоривший помолчал несколько мгновений, предоставляя сестре возможность усвоить сказанное, и продолжил, чуть подпустив в интонацию стали, точно повар приправляющий блюдо щепоткой острого перца. – Не забывай, что ты – Арсентьева! А Арсентьевы никогда не совершают глупостей.
– Скажу, что девкой дворовой стану, в ногах ваших спать буду, только не выдавайте! А что до семейных корней, так укрепляйте себе сколько угодно, женитесь на Ольге Каземировне! Эвон, какой голубушкой она за вами вышагивает. Или вы думали, я того не вижу? А что касается глупостей, которых, как вы утверждаете, не делают Арсентьевы, я бы на вашем месте вообще промолчала! Мне удивительна даже мысль, что кто-то в здравом уме решит с нами породниться. Учитывая созданную вами репутацию…
Раздался резкий глухой стук, будто кто-то с размаха хватил кулаком по безвинной деревянной поверхности. Столу или дощатой стене.
– Своенравна ты, сестра! Сил моих нет! Только Господь-Бог знает, что ты там себе навыдумывала, – грянуло вслед за стуком. – Чем ты у нас грезишь? Петербургом? Парижем? Весьма дальновидно, ничего не скажешь! А что за несносная блажь эти твои полуночные гулянья в саду! Клянусь, если хоть один только раз я увижу в твоих руках сочинения господина Пушкина… Постой, быть может, виной всему этот твой велеречивый обожатель? А ты лучше за него выйди, то-то распотешишь!
– Ах, да причем здесь… – всхлипнула девушка и беспомощно умолкла, чувствовалось, что еще мгновение, и барышня не сможет сдержать слез.
Слушать дальнейший разговор становилось бессмысленно. Отставной штаб-ротмистр вежливо, но непреклонно отстранил нахмурившегося Владимира Матвеевича, а затем нарочно громыхнул свертком о саквояж. Звонко лязгнули отточенные клинки, и голоса тотчас смолкли, будто и не было.
Стремясь сохранить лицо, а заодно не поставить в еще более неловкое положение хозяев особняка, таковое суждение об участниках диалога следовало из контекста беседы, Фальк неторопливо преодолел ступени высокого крыльца, позаботившись придать своим чертам учтиво-приветливое выражение. За спиной его послышалось недовольное сопение, молодой человек украдкой обернулся. Позади сердито вышагивал Холонев.
Изнутри терраса оказалась не столь уж громоздкой. Учитель фехтования попутно отметил, что так оно даже комфортней. То была укромная пристройка с превосходными видами. В углу темнел небольшой круглый столик, крытый узорной скатертью, поверх горделиво высился пузатый тульский самовар. Тучные бока его густо отливали медью. Веселым хороводом пущены были вокруг стола затейливо плетеные стулья. То-то замечательно, должно быть, коротать здесь вечерние сумерки за кружечкой горячего душистого чаю! Что еще нужно для повседневного отдохновения?
Как и следовало ожидать, на веранде находились двое. Облокотившийся на вычурные перильца мужчина и молодая женщина, замершая прямо напротив окна. Приглушенный шторами свет позволял рассмотреть ее огромные голубые глаза, казалось бы, вовсе не предназначенные для слез. Трудно было поверить, что еще минуту назад это миловидное создание метало здесь гром и молнии, всем сердцем сетуя на брата.
Не красавица, подумал Фальк, разглядывая капризно поджатые губы и насмешливо вздернутый веснушчатый носик, однако и впрямь не лишена некоторой притягательности и очарования. На плечи ее был накинут легкий ватерпруф – тонкой шерсти летнее девичье пальто. Белая шляпка с причудливой окантовкой прикрывала золотистые локоны.
Волосы мужчины, гладко зачесанные назад, были ровно того же золотого оттенка, что и у сестры, разве серебрились кое-где благородной сединой и заметно отступали от высокого круглого лба. Тонкий нос, чуть заостренный книзу подборок и бакенбарды песочного цвета – все выдавало в облике его истинного хищника. Худощавое тело князя было облачено в брусничную венгерку, зауженную в талии и богато украшенную витыми шнурами на груди и рукавах. Всякому известно, как любят отставные офицеры наряжать себя в такие вот точно гусарские курточки, особенно те из них, кто оседает в провинциях. Длинные со штрипками панталоны также наводили на мысли о былой кавалерийской службе.
Арсентьев с молчаливым любопытством взирал на неожиданно появившегося гостя. Едва заметные стрелки морщин несколько оживляли его бесстрастный лик, наделяли отпечатком ума и самоуверенности. Отняв руки от перил и скрестив их на груди, помещик выпрямился, перевел взгляд куда-то за спину штаб-ротмистра. Вопросительно приподнял бровь.
– Ваше сиятельство, перед вами прибывший по именному приглашению мастер над шпагою из Петербурга – Иван Карлович Фальк. Имею честь и удовольствие рекомендовать-с! – каркающим вороном отрапортовал Владимир Матвеевич, затем сделал шаг вперед и указал раскрытой ладонью перед собой. – Иван Карлыч, разрешите представить вам радушных и благодетельнейших властителей сих земель. Вот-с, познакомьтесь, их сиятельства Дмитрий Афанасьевич и Софья Афанасьевна Арсентьевы. Как говорится, прошу любить и жаловать!
– Здравствуйте, ваше сиятельство, – проговорил Иван Карлович, привычным движением приподнимая цилиндр, – знакомство с вами для меня большая честь!
Промолвив эти слова, он повернулся к княжне и с полным достоинства поклоном произнес:
– Софья Афанасьевна, слухи о вашей красоте более чем правдивы, fasciné (франц. «очарован»)!
– Благодарю, вы невероятно добры ко мне, сударь! Сomme un vrai gentleman (франц. «как истинный кавалер»), – музыкой прозвучало в ответ.
***
Пожалуй, не было еще на свете женщины, которая не обратила бы внимания на наряд впервые увиденного ей человека. В особенности если сей человек – молодой статный мужчина. Фальк физически ощутил на себе изучающий дамский взор и готов был буквально провалиться сквозь землю, прекрасно представляя, во что превратился его костюм после давешнего лесного приключения.
Однако на людях барышня владела собой ничуть не хуже грозного брата и, если и подивилась странному внешнему виду петербургского гостя, ничем этого не выдала. Одарив присутствующих вежливой улыбкой, она склонилась в элегантном книксене.
Здесь, да простит нам читатель необязательное, быть может, для хроники излагаемых событий, но совершенно необходимое для разъяснения персоны Ивана Карловича отступление, нужно заметить, что когда-то, еще в гимназическую пору, Фальк решил для себя, что всякий порядок зиждется, прежде всего, на традициях и мудрых установлениях предшествующих поколений. Трижды глупец заявляющий, что правила придуманы для того, чтобы их нарушать. Ведь стоит лишь единожды не последовать им, проявить малодушие и незримо зашатается что-то в человеке. Обрушится нечто такое, что делает его порядочным. Боязно даже и подумать, к чему способно привести пренебрежение правилами не одной отдельно взятой личностью, а целым поколением. Уж верно, культурному наследию человечества и вовсе наступит тогда неминуемый конец. Настанут первобытные времена. Без установления, безо всяких социальных условностей. На радость, господам нигилистам. Все мироздание рухнет, будто карточный домик. Не о том ли на свой лад толкуют святые отцы и самая православная церковь? Русскую расхристанную душу можно удержать в узде только духом.
Как это часто бывает, виновником, вернее виновницей, подобного рода «судьбоносных» открытий была девушка. Всякий солидный человек, пожалуй, без особых усилий способен вообразить себе всю опасность сердечной бездны, порождаемой романтизмом младых лет, и, конечно, помнит поступки, совершенные им во имя прекрасного. И не всегда те поступки бывают столь же высоки как чувство, их побуждающее. Ой, не всегда! Особенно, когда это чувство не взаимно…
Для полноты и стройности нашего повествования уж и того более не имеет значения и смысла история любви, поступков, падения и последующих злоключений молодого человека. Довольно знать, что юноша часто пресекал тогда морали и, поправ всякое приличие, бывал порой свински пьян. Из этого могла получиться самая обыкновенная история, каких из десяти девять, если бы не финал. Конец мытарствам положил случай, когда изрядно подгулявшего юношу настоятель Сергиевского всей артиллерии собора протоиерей Данков буквально вытолкал из храма раскуренным кадилом. Фальку стало до того горько, что он сел прямо на мостовую и утирая слезы все бормотал и бормотал: «Что я вам – бес? Нет, ну разве я бес?!».
Опомнившись, Иван Карлович накрепко положил себе позабыть тот полный смут и душевных терзаний период молодости и сделался с тех пор если не воинствующим поборником нравственности, это было бы невозможно, учитывая сферу его деятельности, то, по меньшей мере, адептом консерватизма. Так иногда случается у людей, бросает, что называется, из крайности в крайность. Дабы снова не обрушить свое с таким трудом восстановленное мироощущение он стал болезненно аккуратен во всем. В нарядах, этикете и особенно в отношениях с противоположным полом. Так оно часто бывает с привычками. Вроде бы из безделицы прилепилась, из дурости пустой, и понимаешь это и себя коришь, но поди отвяжись.
Вот таков был Иван Карлович. Человек высокой самоорганизации, перфекционист, он был убежденным сторонником всевозможных регламентов и инструкций. Ему на роду было написано стать придворным, чиновником или заводским конторщиком. Однако бойкий характер и неистребимая тяга к приключениям обеспечили молодому человеку совершенно иной – бесконечно далекий от идеалов морали – жизненный путь, никак, впрочем, не изменив педантичной натуры.
Потому рассудок его, дисциплинированно приученный не оставлять без внимания тончайшие отступления от заведенных в обществе правил, услужливо отметил небрежность Софьиного книксена. Княжна произвела ритуал девичьего приветствия скоротечно и весьма не прилежно, как-то совершенно по-домашнему. Странное дело, но в этом кротком и чрезвычайно милом движении присутствовал свой шарм. И вообще девушка была еще слишком юна, дабы придавать сколько-нибудь заметное значение каким бы то ни было церемониям и глупым условностям. Уж больно, что называется, зелен виноград.
Фальк поймал себя на том, что ему, вслед за самим городом, даже начинает нравиться этакая провинциальная непосредственность. Софья Афанасьевна до смелости откровенна с братом и напрочь лишена чопорности столичных матрон, Холонев тот и вовсе, кажется, не считает нужным скрывать от кого бы то ни было свою неприязнь, ишь каким волком зыркает исподлобья.
Все здесь выходило каким-то двухцветным. Черным, точно антрацит, либо исключительно белоснежным. Без оттенков. Да и к чему, если хорошенько задуматься, вообще нужны оттенки? К сожалению, большой мир утратил этакую искренность. Совершенно безвозвратно. Кажется, доктор Нестеров рассуждал сегодня о чем-то в таком роде.
– Мы ждали вас неделю назад, – вместо приветствия произнес Дмитрий Афанасьевич, возвращая тем самым Ивана Карловича с небес на землю.
Сказанное прозвучало сурово и требовательно. От вкрадчивой искательности, сквозившей в пригласительном письме, не осталось ни единого следа. Покоробленный резкостью и не привыкший давать отчеты всякому встречному, штаб-ротмистр немедленно сдвинул брови и сверкнул глазами, однако вовремя спохватился. Полученное им приглашение, в сущности, представляло собой учтивую форму найма. Явившись сюда, Иван Карлович фактически принял деловое предложение. Не говоря уже о том, что к письму прилагалась немалая сумма аванса («…на удовлетворение всяческих дорожных нужд и сопутствующих трат»). Разумеется, князь вправе был напомнить об этом припозднившемуся учителю фехтования.
Молодой человек помедлил, гадая, не последует ли продолжения, и вежливо сказал:
– В пути возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Если ваше сиятельство сочтет необходимым вычесть из моего гонорара неустойку или же вовсе расторгнуть контракт – я готов соответствовать.
– Оставьте, фехтмейстер! Я не для того выписал вас из столицы, чтобы выслушивать дорожные байки и тем более вступать в конфронтацию, разбирая аспекты договорной юриспруденции, – голос Арсентьева хлестал словно плеть. – В одном только потрудитесь вы меня удостоверить, когда сможете приступить к занятиям?
– Mein Gott! (нем. «Мой Бог!»). Да хоть бы и завтра! – не задумываясь, выпалил Фальк.
«Ты приехал сюда работать», – напомнил он себе еще раз. – «Так и работай! Молча. Вот тебе, и обаятельная уездная непосредственность».
Скрепив себя этой мыслью, молодой человек вздохнул и со всем доступным ему смирением приготовился принять очередной вызов, однако помещик заговорил вдруг совершенно по-иному:
– Превосходно! Право, что же это мы вот так сразу и о делах. Простите великодушно, Иван Карлович, боюсь, я совершенно позабыл о долге гостеприимства. Вам бы сейчас недурственно подкрепиться и вздремнуть часок-другой, не так ли? – он повернулся к управляющему. – Володя, сделай милость, устрой все наилучшим образом.
– Всенепременно-с! – проворчал Холонев, тиская в руках видавшую виды фуражку, и легонько подтолкнул отставного штаб-ротмистра плечом, мол, что вы стоите как истукан?
Иван Карлович с улыбкой промолвил:
– Премного благодарен, ваше сиятельство! Следует признать, что проделанный путь и в самом деле был несколько утомителен. Я буду поистине счастлив, составить вам компанию за ужином.
– Вот и чудно! – откликнулся Арсентьев, демонстрируя радушие. – Стало быть, Иван Карлович, увидимся через час. Холонев, проводи нашего гостя. Честь имею!
– Честь имею, – эхом вторил ему Фальк и добавил, не отводя взгляда от Софьи Афанасьевны. – Мадемуазель!
В ответ девушка снова изобразила незамысловатый книксен и произнесла, обаятельно грассируя:
– À tout al'heure! (франц. «Увидимся позже!»)
Тихий голос ее был едва различим в покойном шелесте листьев сирени и пении незримого хора сверчков. На сей раз Иван Карлович не нашел в движении княжны ни малейшего изъяна и галантно поклонился, а потому не заметил, как шелохнулась за окном расписанная цветами пукетовая (устар. «букетовая, украшенная букетами») занавеска.
Глава шестая
– Вот-с, пожалуй, и все наше невеликое «обчество», сударь мой Иван Карлович! При свете ясного солнышка разбредаемся по углам-закоулкам да вершим всякий свое. А чуть смеркается, летим, не жалея пестрых крыл, на огонек, что мотыльки на лампадку-с! – завершил доктор свою заковыристую речь, направленную на ознакомление новоприбывшего со всеми обитателями усадьбы, и придвинул к себе бутылку шампанского.
Фальк с любопытством разглядывал столовую и собравшихся в ней гостей. Он дежурно улыбался, вежливо раскланиваясь с каждым, кого представлял ему Нестеров.
Четверых присутствующих, включая хозяев особняка, несимпатичного управляющего и самого доктора, Иван Карлович уже знал. Еще с одним примечательным господином в полицейском мундире молодой человек свел знакомство назад тому час, в фойе. Через секунду после того, как расстался на крылечке с братом и сестрой Арсентьевыми.
Оказавшись внутри дома, фехтмейстер буквально натолкнулся на незнакомца, прогуливавшегося вдоль широких окон холла с не зажженной трубкой в руках. Тот мерил шагами пол и в задумчивости покусывал янтарный мундштук, ожидая, как видно, случая перемолвиться о чем-то с его сиятельством. Наградив вошедшего коротким изучающим взглядом, он поспешил себя отрекомендовать.
То был средних лет худосочный мужчина, приятный лицом и манерами. В первый миг Иван Карлович даже как-то смешался, до того удивительно было обнаружить столь безупречную привычку держать себя в провинциальном служаке. Еще мудренее было повстречать его здесь в такой час. «Золотые» (на самом деле, конечно, медные) пуговицы и погоны его темно-зеленого кителя, да еще оранжевые канты на обшлагах указывали, что владелец сего состоит на должности станового пристава и прибывает ныне в чине штабс-капитана. Константин Вильгельмович, так его звали, производил впечатление человека приветливого и обходительного. И фамилия у него хорошая. Вебер. Тоже, видно, из обрусевших немцев.
Двое прочих гостей оставались Фальку безызвестными. До сего момента.
Первым гостем, а верней сказать, гостьей, оказалась немолодая уже, но по-прежнему еще видная собой, хотя и без особой эффектности, купеческая вдова пани Листвицкая. Дама с чрезвычайно острыми чертами, придававшими лицу ее до крайнего удивления сходство с настоящим осиновым листом. Вторым незнакомцем был дурно одетый лет пятидесяти красноносый и ужасно неряшливый господин. Тучного сложения, с огромными залысинами и маленькими щелочками-глазками, в коих, к слову, читались и смысл, и ум. Звали его Мостовой Алексей Алексеевич.
Про Алексея Алексеевича доктор не особенно распространялся, да и, собственно, ничего кроме имени не поведал. О Листвицкой же говорил много больше и куда охотней, потому на нее молодой человек взглянул с удвоенным любопытством.
Всего, не исключая самого Ивана Карловича, выходило восемь человек. Не считая, разве, слуг, деловито сновавших за спинами трапезничающих и то и дело натыкавшихся на молодую непоседливую псицу – любимицу князя по кличке «Заноза». Доброе создание без конца вертелось у всех под ногами и норовило прошмыгнуть под стол, чтобы положить кому-нибудь на колени свою лохматую голову.
Ужинали, если не сказать полуночничали, в просторной и чинной зале. Помещение принадлежало к числу прочих парадных заведений особняка, наряду с холлом, гостиной, библиотекой и большой танцевальной комнатой, полы в которой были начищены столь ревностно, что запросто можно было разглядеть в них свое собственное отражение.
Все это пышное великолепие, повторяя в точности устройство иных богатых дворцов империи, расположилось аккурат за высокими окнами фасада. Комнаты в строгой последовательности и с тщательной продуманностью соединялись промеж собой массивными дубовыми дверьми с золочеными ручками и замысловатыми вензелями. Всюду были расставлены вазы со свежими цветами, висели картины и тканые полотна, курились ароматические свечи, зажатые в медных витых светцах. Хозяйские покои находились здесь же, в бельэтаже, в глубине дома, в той его части, что выходила прямиком к саду и речке. Спальни брата и сестры отделяла друг от друга горница со святыми образами, заменявшая Арсентьевым так и не достроенную часовенку.
Временных жильцов обыкновенно размещали в небольших, но уютных комнатушках наверху, в мезонине. Каждая светлица была заботливо обставлена мебелями, оклеена бумажными полосатыми обоями и непременно имела собственный балкончик. Именно такие вот немудреные апартаменты и были загодя отведены Ивану Карловичу. Еще седмицу назад. Однако три дня тому на пороге имения появилась Ольга Каземировна Листвицкая и приготовленное учителю фехтования жилье, за неимением прочего, тут же сменило квартиранта.









