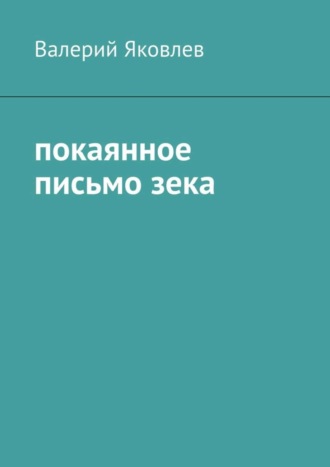
Полная версия
Покаянное письмо зека
– Третьего дня, – говорил вместо традиционного «здравствуйте» Узюкин, – меня во сне укусила лошадь за ухо. Нахально так укусила. А зубы у нее такие крупные, крупные. Думал, гадал: к чему бы это? Оказалось, вот к чему.
Илларион Сергеевич яростно сверлил полковника глазами:
– Конфузия, вышла, однако, Александр Иванович… С какой формулировкой прикажете оформлять решение суда? Напишем, воспитанник отказывается досрочно выходить на свободу?! Кому из нас прежде, товарищ полковник, выпишут билет в «желтый дом»? Мне или вам?
Впервые в жизни судья оказывался в такой нелепой ситуации. Он не знал, что делать. Чрезвычайно репрессивное советское законодательство было рассчитано на то, чтобы сажать людей пачками и штабелями. Это же законодательство предусматривало условно-досрочное освобождение. Но ни в одной должностной инструкции не было прописано, как быть с заключенным, который как последний дурак отказывается досрочно выходить на свободу.
Фамилия Узюкин, необычная, немного смешная, сама по себе тянула на прозвище. Но коллеги Иллариона Сергеевича прозвали его по-своему: «Мистер нет», по аналогии с министром иностранных дел СССР товарищем Громыко, который на переговорах с американцами неизменно занимал бескомпромиссную позицию.
Узюкин – человек, прошедший фронт, не раз обнимавший смерть, как маму родную, жалел преступивших закон ребятишек послевоенного времени. Он понимал, что это следствие разрухи, безотцовщины, голода. Но малолетних уголовников эпохи развитого социализма судья отказывался понимать категорически и считал их врагами народа.
Илларион Сергеевич отличался упрощенным, линейным типом мышления. Его мировоззренческая конструкция была предельно четкой. Если в любом магазине можно купить белый хлеб за двадцать две копейки, масло сливочное, конфеты всякие – зачем воровать? Если в стране имеются тысячи бесплатных кружков, училищ, техникумов, вузов – зачем слоняться без дела? Хочешь, учись с парашютом прыгать – хочешь песни пой, в барабаны бей.
Понятие «трудный подросток» судья считал надуманным, искренне полагал, что зародилось оно в недрах инспекции по делам несовершеннолетних с подачи бездельников психологов-социологов.
– Все философствуют и философствуют, – бывало, ворчал Илларион Сергеевич, – чего мудрить? Взял гранату, пошел на фашистский танк, уничтожил танк. Получи, фашист, гранату! Вот и вся философия.
Невозможно было даже вообразить, чтобы Узюкин согласился «взять на лапу». Скорее, он съел бы взяткодателя прямо на месте, живьем и без всякой соли.
В судейском обществе авторитет Иллариона Сергеевича взлетел на невообразимую высоту после дела члена бюро обкома партии товарища Мамыкина.
Партийный функционер возлежал на ложе своей любовницы актрисы областного театра Ларисы Белянчикой, когда туда явился другой ее воздыхатель – слуга Мельпомены Арнольд Аникин.
Мамыкин, поняв, что он отнюдь не единственный «друг сердца» Белянчиковой, крайне расстроился, оскорбился и полез в драку. Аникин умолял партийного функционера не бить его по лицу, так как намечалась премьера спектакля. Но разъяренный ревнивец был неумолим и дал-таки Арнольду в глаз и поставил ему жирный фингал. Затем, как следовало из материалов дела, Мамыкин, схватив со стола кухонный нож, с криком «Убью тебя, пучеглазый!» погнался за Аникиным. Член бюро обкома как есть в нижнем белье выскочил вслед за убегающим актером на улицу. Вероятно, он бы его зарезал, но Аникина спасли быстрые ноги. Горожане разъяренного Мамыкина, конечно, видели. Вышел, конечно, крупный скандал. Обкомовские, конечно, попытались скандал замять. Но принципиальный Узюкин «впаял» -таки Мамыкину пятнадцать суток за хулиганство.
Александр Иванович и Илларион Сергеевич часто общались по работе и часто «сходились на мечах». Про Иллариона Сергеевича говорили, что он выискивает грехи воспитанников до седьмого колена. Освободиться по УДО в суде под председательством Узюкина означало то же, что птице пролететь сквозь замочную скважину.
– Да поймите вы, – пытался его переубедить полковник, – колония, это вам не место, откуда воспитанников нужно выпускать с удостоверениями «почетных святых» в кармане. Это ж пепелище, здесь люди с опаленными, сожженными судьбами сидят.
Александр Иванович вытягивал ладонь, свободной рукой изображал печать, дул на эту будто бы печать, будто бы пытаясь согреть ее, и делал вид, что будто бы смачно ставит печать:
– А давайте на зеков печати шлепать, Илларион Сергеевич? Со знаком качества? Куда-нибудь на шею, на видное место?
Узюкин здорово портил показания колонии по УДО. Казалось бы, полковник должен был его возненавидеть. Но на деле Александр Иванович к Иллариону Сергеевичу относился не без некоторой симпатии. Судья Узюкин со своим упрощенным, линейным типом мышления очень походил на начальника оперчасти Шурукова. Оба были людьми бесхитростной конструкции, личностями дубоватыми, но оба не имели двойного дна. И от судьи, и от опера исходила какая-то не до конца понятная лошадиная готовность к работе. А все остальное их интересовало мало. Полковник, человек измученный общением с личностями с изощренной психологией, каковыми являлись заключенные, поневоле тянулся к таким понятным и предсказуемым типажам.
Иллариона Сергеевича часто бросали на образцово-показательные процессы, выносить суровые приговоры. Вместо него председательствовать на выездном заседании суда в колонии отправляли другого человека. Тот другой человек, обычно бывал более лоялен к воспитанникам. Таким образом, выравнивался баланс между «плохим» и «хорошим» судьями и в целом статистика по УДО в колонии начинала выглядеть не столь катастрофично.
«ОТКАЗНЯК» ВАНИ БОЛЬШАКОВА
Походкой человека, в пятой точке которого торчат штук пятьдесят иголок, полковник подходил к судье. Движения его были быстры, резки и нервны. Увидев свирепое и в то же время озабоченное выражение лица полковника, Узюкин сразу понял, что Александра Ивановича сейчас интересует только один вопрос: где Большаков?
– Да, там он, – отвечал Илларион Сергеевич, не дожидаясь вопроса, – в курилке стоит подлец, как столб вкопанный. Прости, Саша… я всегда чувствовал, даже был уверен, что эти твои «гитлерюгендовцы» когда-нибудь да выкинут «кривое коленце», и это «коленце» костяное угодит тебе прямо в лоб. Знаешь… это твое безудержное увлечение УДО… Соображаешь теперь, к чему приводят подобные игрища? Твой любимый Ванюша тебе же фигу показал! Да и мне, дураку, тоже. Ведь я, старый идиот, сегодня перед заседанием суда был уверен, что уж кого-кого, а Большакова можно выпускать досрочно. И эта привычка твоя дурацкая китель парадный на УДО одевать тоже мне не по душе. И погоны-то у него золотые, и на солнце-то они сияют аки мечи огненные… Что это для тебя, День Победы что ли какой-нибудь»?
Александр Иванович не дослушал тираду. Походкой резвого юнца он влетел в здание Дворца культуры, в три прыжка проскочил пустынное фойе и, нырнув в дверь, очутился в курилке.
Большаков Ваня стоял у выбеленного известкой ствола дерева и печально смотрел куда-то в небо. Художник мог бы писать с него картину. Отличная представилась бы фактура. Могло выйти нечто под названием «Бугор в минуту печали». На Ване красовались лучшие на зоне сапоги. «Носик» их был подбит квадратиком и отполирован. Каблуки несколько увеличены в высоту набойками и немного заострены. Напрашивались шпоры, но мастер, по понятным причинам, ставить их не решился. Брюки Большакова были выкроены под легкие – без больших «парусов» галифе» и смотрелись изящно, куртка аккуратно подогнана по фигуре. На груди висела алая лакированная бирка, а на ней каллиграфическим почерком были выведены фамилия и инициалы Большакова. Ваня отличался атлетическим телосложением, фигура его выдавала привычку «тягать гири». Он имел несколько большеватые кулаки, но в целом они соответствовали пропорциям тела и вида не портили. Лицо Вани Большакова было довольно приятным. При большом росте и крепком телосложении он отнюдь не походил на амбала, который взламывает амбарные замки.
Александр Иванович, едва сдерживая желание прибить Большакова как гада последнего, весь багровый, как сеньор Помидор, подошел к нему и начал говорить. Говорил при этом начальник так, будто палил из зенитной установки:
– Я не знаю, какие тараканы, на каких оркестрах играют сейчас в твоей голове. Вот честно, Ваня… не знаю, какие это тараканы: рыжие ли, черные, белые, лысые, лохматые. Но прошу понять следующее: скоро тебе исполнится двадцать, и я вынужден буду закрыть тебя в карантине. А там последний паук сдох с проклятиями, потому что дневальный Ищенко каждый день там полы моет-драит с хлоркой. Все, Ваня, будешь сидеть один. Не будет привычного окружения. Никто тебе сапоги по утрам начищать до блеска не станет, постель твою заправлять, одежку тебе стирать-гладить. И часики ты свои снимешь электронные и оставишь мне на память. А главное, Вань… ты отправишься во взрослую колонию. Отправишься по месту проживания. А там, Ваня, в родных тебе местах, – на триста верст вокруг все зоны «черные». Тебе придется иметь дело с урками, ворами, которые тебе предъявят, как только твоя нога ступит на зону. И ни меня, ни Владислава Николаевича рядом не будет. Уяснил?
Полковник нервно ожидал ответа. Он в ярости и в то же время как—то ловко схватил пролетавшую мимо собственного носа муху и стер ее ладошками в порошок. Ему хотелось достать из кобуры пистолет и пару раз пальнуть в воздух. Для разрядки… Однако пистолета не было.
– Александр Иванович, – отвечал наконец Большаков, – вы не подумайте… я очень вам благодарен… Александр Иванович, за все то, что вы для меня сделали, вы не подумайте… Александр Иванович, я против администрации не пойду, но… от УДО… Александр Иванович… я отказываюсь.
Ваня не мог скрыть волнения и говорил голосом человека, терзаемого мучительным внутренним состоянием. Ему не верилось, что эти слова произносит он сам. Полковник устало присел на находившуюся рядом скамейку, резко, как кольцо парашюта, дернул верхнюю пуговицу форменной рубашки и расстегнул ворот. Мысль о том, что точка невозврата пройдена, одновременно больно сжала ему сердце, но в то же время как-то и успокоила.
– А я думал, – говорил он, – приедешь через полгодика – расскажешь ребятишкам, как на воле устроился. Убийца ты, Ваня: того парня убил, себя сегодня убил и меня сейчас вот, только что шлепнул, как куропатку.
Александр Иванович, встав, медленно плелся по направлению к ДК. Он бесшумно пересек фойе Дворца культуры, вышел наружу и лицом к лицу столкнулся с судьей Узюкиным. Кончик простреленного на фронте правого уха Иллариона Сергеевича все еще горел алой лампочкой, на длинноватой, типа гусиной шее по-прежнему мощно пульсировала вена, а на лбу выступила крупная испарина.
– Да будет вам, Илларион Сергеевич, – ворчал полковник, глядя на судью, будто изготовившегося к прыжку, – что мы с вами, на петушиных боях, что ли? Все Илларион… Большакову вздумалось сыграть в русскую рулетку… на УДО он не пойдет. Придумай там что-нибудь. Ну, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами считать условно-досрочное освобождение нецелесообразным и так далее. На рояле… Илларион… труднее научиться играть, чем придумать бюрократическую формулировку. Труднее, Илларион, труднее. Так что… придумай чего-нибудь.
Сам Большаков стоял без движения, как каменный истукан. Ваня курил, но лишь изредка, когда сильно нервничал. Сейчас курить хотелось страшно. Он думал, что уже после обеда будет на свободе. Там, где-то за забором, его ждали отец, мать, братишка. Писали, что приедут встречать. Сигарет в кармане не было. Но Ваня все еще был бугром и мог приказывать:
– Человек! – громко крикнул он
Это было обезличенно-обобществлённое обращение к воспитанникам. Услышав его, зеки-ребятишки, кто ближе находился к бугру, должны были сломя голову нестись на клич. Так произошло и на этот раз. Ухо дремавшего где-то поблизости на посту воспитанника-соглядатая с красным косяком на рукаве уловило звук. Воспитанник вздрогнул, как от удара током. И со скоростью человека, за которым гонится стая хищных волков, ринулся к Большакову.
Ваня, сделав полуоборот телом, принял легкую стойку, чтобы его чего доброго не сшибло несущимся воспитанником.
– Есть закурить? – спрашивал он зека-соглядатая, всем своим видом выражавшего готовность хоть умереть, только б Ваня ему приказал.
– «Космос», – отвечал воспитанник, легкие которого со свистом «тягали» воздух после стремительной пробежки.
– Молоток, – хвалил его Большаков, – с фильтром куришь. Чтоб тебе по УДО откинуться…» (освободиться)
Закурив, Ваня мечтательно посмотрел на небо.
– Шикарные звезды сегодня на небе, – неожиданно сказал он, – на брюлики (драгоценные камни) похожи из ювелирного, был у нас такой в Прохоровском переулке. «Чистили» его пару раз, кажется.
Между тем в хрустально чистом небе нещадно палило солнце.
– Какие звезды? – спрашивал изумленный воспитанник.
– А ты посмотри, – предлагал ему Ваня.
Он, сомкнув пальцы рук кольцом, будто подзорную трубу поднес их к глазу зека-соглядатая.
– О! Точно! Точно! – восторженно кричал воспитанник, – точно, на брюлики похожи, одна прямо-таки рыжьем (золотом) отливает. У нас такие брюлики в ювелирном на Проспекте продавались. Медвежатник Вася Семиглаз его брал, но спалился на бабе. Она цацки эти на себя напялила, дура, и ментов на Васю навела.
Бугор оценил сообразительность воспитанника. Ему захотелось его вознаградить. Большаков снял с головы новенький, тщательно отглаженный берет, вручил собеседнику, пару раз кашлянул от дыма сигареты и зашагал куда-то в сторону дисциплинарного изолятора – ДИЗО. Он походил на человека, уходящего в небытие…
ЧЕРВОТОЧИНА КАРЬЕРНОГО СЛУЖАКИ
«Азартный, однако, нынче складывается день», – думал Александр Иванович, двигаясь по направлению к кабинету.
Утреннее парадно-праздничное настроение было разорвано в клочья.
В кабинете полковник первым делом созвонился с начальником оперчасти майором Шуруковым:
– А, скажи-ка, – Владислав Николаевич, – интересовался он, – сколько твоих агентов, этих твоих «пастухов» присматривали за Большаковым?
– Семь человек, – отвечал Шуруков и перечислял имена стукачей, которые персонально «пасли» Большакова: банщик Сладков, каптерщик Макаров, в столовой – баландер Двиняников…
– Хватит, – перебил его полковник, – и что же… они не видели и не понимали, с каким настроением Большаков идет на УДО?
– Так ведь, Александр Иванович, чужая душа – потемки, – оправдывался опер, – человека, как куртку, не расстегнешь и внутрь не заглянешь.
С этим аргументом полковник не мог не согласиться. Такие фокусы выделывали зеки, такие среди них попадались причудливые личности, что души их, должно быть, представляли собой какие-то совершенно непостижимые формулы. Вот и Ваня Большаков в очередной раз показал, что душа человеческая может выкинуть такую штукенцию, предугадать которую никак уж невозможно.
Александр Иванович, сторонник изящных решений, не торопился «запечатать» Ваню в дисциплинарный изолятор. Тем более и формального повода для этого не было. Ну, отказался человек выходить на свободу – не сбежал же, в конце концов. Тут требовалось решение такой точности, с какой человек вправляет нитку в иголку, а его пока еще не было.
– Где он там сейчас, этот раскаивающийся грешник, хреном бы его по башке, околачивается на зоне? – интересовался полковник.
– Около дисциплинарного изолятора чего-то трется, – отвечал Владислав Николаевич, – ждет, наверное, что посадят. Покурил, подарил беретку воспитаннику. И этому же воспитаннику рукой на небе что-то показывал. Чего? – Не пойму. Может, видения какие у него начались?
– Отставить видения! – распоряжался Александр Иванович. Гони его в отряд. Только мракобесия нам еще не хватало. Гони его в отряд и пусть где-нибудь в каптерке или ленинской комнате посидит – потом разберемся… какие там у него видения.
Полковника объяла тоска. Сценарий предстоящего УДО никак не складывался. В случившемся он еще не чувствовал глубокого, драматического смысла. Происходившее, скорее, напоминало ему дешевенькую, несуразную пьеску. Александр Иванович не понимал: есть ли в случившемся какая-то закономерность или это действительно случайность, которая обрушивается на голову раз в сто лет?
Скоро полковнику сообщили, что из пятнадцати представленных к УДО кандидатур Узюкин освободил трех воспитанников. Илларион Сергеевич ввиду плохого настроения, да и по привычке, хотел было «зарубить» всех. Но у этих зеков-ребятишек вообще не было ни одного взыскания. C точки зрения условно-досрочного освобождения это были идеальные кандидатуры. Можно было подумать, что, оказавшись в заключении, они только тем и занимались, что читали псалмы и вели богобоязненную монашескую жизнь. Сроки ребятишки имели смешные, относились к категории горе-уголовничков, которые обычно сидят «за мешок картошки». Не выпускать их досрочно было просто нельзя. И Узюкин скрепя сердце наступил на горло собственной песне. Изучая представление к УДО на имя Вани Большакова, Илларион Сергеевич хищно сверкал глазами. Опытный глаз судьи выцепил предупреждение, которое было вынесено Большакову пару лет назад. Воспитанник Ренат Латыпов на производстве прищемил палец агрегатом для штамповки деталей. А баландер Стас Рымбаев в столовой в корпусе огнетушителя умудрился поставить бражку, напился, пел песни, хохотал и рассказывал анекдоты про начальника колонии. Большаков, как бугор зоны, отвечавший за все, тогда получил взыскание. Это взыскание давно было погашено, про него все уже забыли. Но формальный повод судья нашел. В глубине души он благодарил нарушителей режима Латыпова и Рымбаева. Этих двух обормотов, этих двух идиотов, один из которых остался без пальца, другой напился на зоне, как в каком-нибудь кабаке. Уголовники спасли честь судьи, помогли ему выкрутиться из щекотливого положения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

