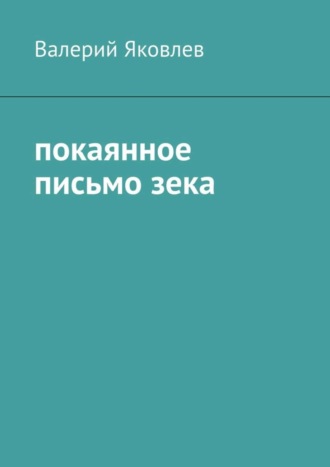
Полная версия
Покаянное письмо зека

Покаянное письмо зека
Валерий Яковлев
© Валерий Яковлев, 2020
ISBN 978-5-4498-3977-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Валерий Яковлев
(проект повести)
ПОКАЯННОЕ ПИСЬМО ЗЕКА
История одного раскаяния
Иные дни начинаются лирически, безмятежно. Ничто не предвещает беды, жгучей проблемы, и человек всеми фибрами души ощущает счастье бытия. Чрезвычайно жадная личность может в таком состоянии подарить кому-нибудь «ржавый» пряник. Палач пускает слезу и гуще мажет веревку мылом – чтобы не мучить жертву. У людей резко падает процент присутствия сволочизма в крови. Они становятся менее склонными к конфликтам, готовы всех прощать, любить и гладить по головке. В похожем полублаженном состоянии пребывал начальник детской воспитательной колонии полковник Александр Ивановича Седов, когда весенним благоухающим утром стоял у раскрытого окна кабинета и созерцал виды зоны.
Как писаная картина, выглядела территория окаянная. Асфальт был «вылизан», массивные бетонные вазы покрашены, свежая побелка кирпичных казарм слепила глаза на солнце. Где не было асфальта – зеленела трава; в гуще цветущих яблонь, словно в райском саду, пели птицы.
У входа в зону красовался громадный стенд. На нем аршинными буквами было выведено: «Воспитанник, помни: здесь начинается твой путь на свободу». Конструкция имела интересную особенность: художник сделал надпись с обеих сторон. Ее могли видеть и прибывающие в колонию и убывающие из нее.
Полковник набрал полную грудь воздуха и мечтательно закрыл глаза: «Еще бы штук пятнадцать – двадцать рябин посадить, – думал он, – да калины красной, – любая инспекция будет рыдать от восторга».
Лицо полковника излучало свет. Он напоминал монаха, постигшего заповеди блаженства из Нагорной проповеди Спасителя. Определенно, день в колонии обещал стать особенным. Готовился большой выпуск УДО – условно—досрочно освобождающихся. По обыкновению, УДО обставлялось торжественно. Тех, кто выходил на свободу, выстраивали в одну шеренгу перед громадными воротами колонии. Оркестр играл бравурный марш. Ввиду особого случая Александр Иванович надевал парадный китель, чистил до солнечного блеска ботинки. Он весь преображался и становился торжественным и многозначительным, как маршал Жуков на подписании Акта о безоговорочной капитуляции. В кульминационный момент Александр Иванович лично отдавал команду: «На свободу ша-гом марш!» Дежурный помощник начальника колонии – ДПНК – делал взмах рукой, где-то на вахте нажимали кнопку привода огромных линейных ворот, и, вздрогнув, они начинали медленно отодвигаться. По мере открывания ворот на противоположной стороне освобождающиеся видели приехавших их встречать близких. В эти последние минуты пребывания на зоне ребятишкам казалось, что ворота отодвигаются целую вечность. Не в силах сдержаться, они галопом неслись прочь из колонии в образовавшийся проем и оказывались в объятиях родственников и друзей.
Полковник очень любил УДО и поэтому в ожидании церемонии находился в прекрасном расположении духа. В такие минуты он нередко припоминал мелодию «Русского танца» из «Лебединого озера» Чайковского. Замысловатая, затейливая мелодия была несколько сложна для насвистывания, потому Александр Иванович прокручивал ее в голове, постукивая в такт мелодии пальчиками по подоконнику. Иногда, точно зная, что никто его беспокоить не будет, он даже выделывал в кабинете под любимую мелодию танцевальные па. Небольшая тучноватая фигурка полковника, сама собой перемещавшаяся по ковру просторного кабинета, выглядела весьма забавно.
ПЕЧАЛЬ СТЕПЕННОГО МУЖА
Ближе к полудню, Александр Иванович привычно выкурил свой любимый «Opal», аккуратно потушил сигарету о пепельницу, хлебнул чаю. Он уже собирался накинуть парадный китель и направиться в актовый зал Дворца культуры – ДК, где заседал областной суд, как вдруг заметил стремительно несущуюся в сторону его окна фигуру начальника оперчасти майора Владислава Шурукова.
Владислав Николаевич бежал, высоко закидывая вверх худые коленки. Его чудные яловые офицерские сапоги сверкали на солнце, из-за чего возникала аналогия с копытцами оленя. Долговязый и чрезмерно худой, похожий на сушеную воблу опер молниеносно взлетел по лестнице административного здания и со скоростью вещи, которую швырнули, очутился в кабинете хозяина.
Невидимая внутренняя струна от копчика до языка и неба натянулась внутри Александра Ивановича. Он почуял неладное. Таким начальника оперчасти полковник еще не видел. Майор напоминал пса, отмотавшего семь верст в округе.
«Интересно, какая Горгона поцеловала его в задницу?» – думал Александр Иванович. – Влетел аки пуля».
– Только не говорите мне, – сказал он, – Владислав Николаевич, что у Венеры Милосской выросли руки и она играет на балалайке. Что случилось? Что вы расскакались как сайгак?
Начальник колонии бывал вспыльчив, говорил колкости, часто сыпал нетипичными метафорами. Но все знали, что это форма, внешняя оболочка полковника – его реакция на нервную ситуацию. Выговорившись, он обычно успокаивался, все обдумывал и решение принимал взвешенное. Привычки рубить сплеча, сворачивать головы подчиненным и заключенным за ним не замечали.
Шуруков нагнал в легкие достаточное количество воздуха и, будто паля короткими пулеметными очередями, заговорил нервной скороговоркой:
– Свинью нам подбросили, Александр Иванович. Большую, жирную свинью… Я бы даже сказал свиноматку.
Начальник колонии в нетерпении сверкнул глазами, посмотрел на опера так, как, по обыкновению, сверлили взглядом врагов революции комиссары в кожаных тужурках, прежде чем поставить их к стенке и отправить к праотцам.
Шуруков вытянулся в струну, в три погибели выпучил маленькие глазки и выпалил:
– Большаков Ваня отказался от условно—досрочного освобождения…
– Как отказался? – изумился Седов.
– Так и отказался, – договорил опер, – прямо на заседании суда.
Если бы сейчас в окно кабинета полковника влетела стрела, выпущенная воинствующими ацтеками, и вонзилась прямо в глаз висевшего на стене портрета Феликса Эдмундовича Дзержинского, в реалистичность такого сценария Александр Иванович поверил бы скорее, чем в то, что воспитанник Ваня Большаков отказался от условно—досрочного освобождения.
Но начальник оперчасти не мог сочинять сказки. В его специфическом мозгу фантазии почти не обитали, а пульсировали сугубо утилитарные соображения типа «выявить—раскрыть—наказать». Впрочем, служакой он был проверенным. Звезд с неба не хватал, но дело свое знал, как хорошая собака ищейка. На фоне страстного Александра Ивановича человеком он выглядел суховатым, лишенным большого воображения, но в части выполнения своих обязанностей опять же сказать о нем чего—нибудь особенно худого было нельзя. От Владислава Николаевича веяло неким унылым постоянством, но в его деле, связанном с постоянной рутиной, скорее это было достоинством, чем недостатком.
– Бесхитростный человек, – говаривал про него Александр Иванович, – но надежен как дубовый стол.
Нет, Шуруков не мог ничего сочинить. Тем невероятнее казалась услышанная новость.
Страстный, эмоциональный полковник от удивления даже шевельнул ушами. Он как сейчас помнил первую встречу с Ваней Большаковым. Ваня прибыл на зону этапом холодным осенним деньком. Его атлетического типа фигура заметно выделялась среди тощих, потрепанного вида пацанчиков. В то время Александр Иванович был мучим поисками перспективной кандидатуры на место главного бугра (здесь, в контексте, – командира) зоны. Зек номер один, бугор Аркаша Бикчурин с браздами правления справлялся плоховато, чуть что махал кулаками. Как—то он вышел из себя и съездил по морде дневальному Ищенко. У Аркаши Бикчурина был великолепно отработан на зеках хук правой. Он бы мог и быка свалить. Но быки в колонии если и водились, то в переносном смысле. В прямом, физическом смысле за быка сошел дневальный Ищенко, которому Бикчурин благополучно сломал челюсть.
Знакомясь с этапом, Александр Иванович, бывало, как опытный купец, оценивал «товар». Он входил в раж и даже ощущал себя ловцом душ человеческих. Поскольку души были падшие, в его задачу входило приведение этих самых душ в более—менее приличное состояние. Почти безошибочно, интуитивно, он мог определить, из кого что получится. В Большакове полковник почуял способность управлять людьми. Из персонажей подобного типа получались великолепнейшие бригадиры лесорубов, какие—нибудь мастера на буровых вышках, шахтах и так далее.
Александр Иванович чувствовал в себе силы годика за полтора слепить из Большакова первоклассного бугра.
– Может, нам Бог послал этого человечка, – шепнул он своему начальнику опер части, указав взглядом на Большакова, – хорош пацанчик! А кулаки какие? Глянь, Владислав Николаевич. Изумительные кулаки, пудовые. Слепим из него бугра? А, Владислав Николаевич?
Представляя советскую колонию, обыватель хватается за голову, а особо чувствительные натуры падают в обморок. Кошмар! Вышки, собаки, злодеи вертухаи, которые только и ждут, чтобы какого—нибудь несчастного зека затоптать—запинать, а лучше пристрелить. Ничего такого в зоне, где работал Александр Иванович, не было и в помине. На вышках стояли охранники, именуемые воспитанниками дубаками, которые и не помнили, когда в последний раз держали в руках оружие. Из средств воздействия дубак имел лишь дубинку, бесцельно болтавшуюся у него на боку. В колонии охранниками работали и женщины—дубачки. В отличие от склонных к лени мужчин, стояние на вышке наводило на них глубокую печаль. Дубачки скучали, от безделья впадали в тоску. Пытаясь с ней бороться – вязали, лузгали семечки, почитывали романчики, хотя инструкциями все это было строжайше запрещено.
Иногда в запретную зону с контрольной полосой и вышками с криком залетала ворона. Над забором в несколько рядов была натянута колючка. На ней спиралеобразно висела такая же проволока, создавая что—то вроде паутины. Где—то внутри спиралеобразной колючки пролегала нить звуковой сигнализации, которая срабатывала при задевании проволоки. Птица, конечно же, касалась ее. Дико начинала ухать сигнализация. Но охрана, наученная опытом долгого безделья, знала: тревога ложная. Ее отключали, чтобы, впрочем, затем включить вновь. Для верности дубаки на вышках, каждый в зоне своей ответственности, одним глазком окидывали запретку и снова погружались в привычную полудремоту.
Каждый день во время утреннего развода на зоне поднимался красный флаг, оркестр почти без фальшивых нот играл гимн Советского Союза. И только после этого обязательного ритуала ребятишки стройными рядами расходились, кто на работу, кто на учебу. Картина плоховато вязалась с представлениями о местах лишения свободы. Глядя на происходящее, несведущий человек мог подумать: в колонии ли он находится? Не пионерский ли это, часом, лагерь, имени какой—нибудь пламенной комиссарши?
СКАЗАНИЕ О КРАСНОЙ ЗОНЕ
Читатель, видимо, уже начинает догадываться, что речь идет о не вполне обычной колонии. И будет прав. Всему причиной был особый образцово—показательный статус зоны, который накладывал глубокий отпечаток на уклад жизни зеков. Сама картина бытия окаянного этого места складывалась иным порядком, и, казалось, даже солнце восходит здесь строго по уставу.
Трудна была работа Александра Ивановича. В образцовую колонию косяком шел начальник. Здесь подводилась «цифирь», писались пышные, благодушные отчеты. Где еще было взять положительные примеры, чтобы рапортовать об успехах в деле перевоспитания преступного элемента? Поэтому шел и шел в колонию начальник: и худой и толстый, и розовый и налитой. Кубинские товарищи с острова Свободы прилетали изучать опыт! Колония жила, как под всевидящим оком, и предстать в дурном свете не могла никак.
Полковник, человек многоопытный, определил три столпа, на которых держался статус образцово-показательной колонии. Первым был внешний вид зоны и зеков. Вторым – внутренняя самоорганизация колонии, под руководящим началом активистов. Третьим – условно- досрочное освобождение, как зримое и убедительное доказательство успешной работы. Этих трех «пристяжных лошадок» Александру Ивановичу приходилось «стегать» постоянно.
Прежде всего, полковник старался по части создания благоприятной визуальной картинки. Через зрение человек получает большую часть информации, по внешнему виду выносит первые оценочные суждения. Нужно было так оглушить проверяющих товарищей чистотой, порядком, опрятным видом воспитанников, чтобы у них сразу отпала мысль искать недостатки. Поэтому, едва сходил снег, воспитанники, куда дозволялось ступать их ногам, обходили каждый метр зоны и вычищали ее так, что позавидовал бы самый что ни на есть уважаемый председатель передового колхоза. Колония засеивалась травкой, а когда она подрастала, ребятишки регулярно ее подкашивали. Еще воспитанники белили яблоньки, ровненько, как под линеечку, подстригали декоративные кусты, красили заборы, казармы и даже мрачноватое здание КПП.
Раз в десять дней, перед баней ребятишки проводили генеральную уборку и в жилых отсеках. Они разводили душистое мыло и драили стены, окна, каптерку, раздевалку, туалет, натирали до блеска бюст Ильича в ленинской комнате и вытирали пыль с висевшего здесь же на стене портрета отца-основателя советской воспитательно—принудительной педагогической системы Антона Семеновича Макаренко.
Александр Иванович питал страстную любовь к казарменному порядку. Часто он сам обходил территорию, справедливо полагая, что поддержать требующуюся степень чистоты и блеска зоны без постоянного, нудного контроля никак нельзя.
– Ищенко! – зазывал он обычно дневального.
Тотчас раздавался топот пудовых кирзовых сапог, и перед Александром Ивановичем вырастала фигура верзилоподобного воспитанника.
– Ну что? Любезный ты мой… – говорил полковник, – тетрадку в руки, и вперед. Пойдем строить царствие небесное на земле нашей грешной.
Александр Иванович и дневальный Ищенко шли по зоне, выявляя, что не в порядке. Рядом с невысоким начальником колонии, Ищенко смотрелся громадиной. Две несопоставимые фигуры выглядели несколько карикатурно. Впрочем, воспитанники размером с приличный шкаф, встречались на зоне довольно часто. Этими верзилами, преимущественно, были активисты, занимавшие руководящие зековские должности. Их администрация могла оставить на зоне и после восемнадцати лет. Досиживая срок или дожидаясь условно-досрочного освобождения, эти избранные личности перерастали сверстников и умом и телом. Верзилоподобная фигура воспитанника, безусловно, выделалась из среды, так как скорее годилась ребятишкам в дяди. Однако поскольку на зоне таких личностей была не одна пачка, то смотрелись они вполне привычно, как естественный антураж.
Сломан ли кустик, не покрашена где-то урна, валяются ли окурки на земле, или плоховато выметен плац – Ищенко все старательно записывал, потом передавал данные буграм (командирам) отрядов. Те, каждый в зоне своей ответственности, снаряжали ребятишек, – в колонии начиналась суета по устранению недостатков. Пулей мчались воспитанники подбирать окурки, подвязывать сломанный кустик, докрашивать урну. Ребятишки выстраивались в три – четыре ряда, приседали и небольшими щеточками, какие, обычно, используют в столярных мастерских для подметания стола, «вылизывали» плац.
Казарменный блеск и чистоган требовалось дополнять соответствующим внешним видом самих воспитанников. Иначе «картинка» теряла восприятие. Данную проблему полковник решал без надрыва, в некотором роде, даже, технично и элегантно. Могло показаться странным, но в неволе мальчишки следили за собой даже больше, чем на свободе. Объяснялось это обстоятельство не только требованиями режима, но и тем, что аккуратный прикид, как бы, подчеркивал статус пацана. Иначе пацана, чего доброго, могли посчитать чуханом (неопрятный, не пользующийся авторитетом пацан). Чуханом быть никто не хотел, потому ребятишки старались. Имевшееся на зоне швейное производство служило им прекрасным подспорьем. Формально подшивать – ушивать казенную робу—спецовку запрещалось. Но Александр Иванович, а с его подачи и другие воспитатели, смотрели на ограничения сквозь пальцы. Нарушать инструкции вынуждал постоянно посещавший колонию «табун» начальников. Выглядеть перед высокими чинами плохо воспитанникам было совсем нежелательно.
Среди сотен хулиганов, воришек, насильников находились мальчишки, обнаружившие в себе талант портного. Обучившись шитью, они переходили в разряд неприкасаемых, особо ценных кадров. Именно эти мальчишки исправляли недостатки советской легкой промышленности, превращая бесформенные робы молодых зека в подобие униформы, которая сидела на ребятишках, после переделки, уже как литая.
Среди сотен малолетних преступников находились также и таланты, в чьих жилах явно текла кровь сапожных дел мастера. Своим умением они даже превосходили таланты предков. Только на зоне обыкновенные кирзовые сапоги, сшитые из неблагородной свиной кожи, могли превратить в произведение искусства. Где-то на задворках производственного корпуса голенище обуви укорачивалось и прошивалось. Молодой спец обрезал каблук, придавая ему конфигурацию приличного гражданского ботинка, ставил набойку. В нос сапога зек-мастер вставлял деревянную формочку и, подбивая грубую кирзу молоточком, придавал «морде» обуви изящные модельные черты. Затем юный умелец наполнял сапог песком, густо мазал его кремом и, как утюгом, разглаживал сапог обрезком разогретой трубы, превращая грубую поверхность кирзы в некое подобие кожи лакированных ботинок. Для поддержания нужной температуры «утюга» -трубы мастер поджигал пропитанную соляркой ветошь. Время от времени «утюг» приходилось подогревать. Виртуозная переделка делала кирзачи легкими, изящными, не уступающими по красоте чудным офицерским яловым сапогам. Каждый уважающий себя пацан полагал за честь обладать такими.
Зона пестрела красными бирками. В колонии было налажено производство комплектующих деталей для автомобилей. В том числе собирали здесь фары габаритных огней. Находчивые воспитанники брали рассеиватели этих самых фар, вырезали из них прямые полоски, обтягивали их красным кумачом, пропитывали эмульсией. За пару пачек сигарет, кило пряников художник колонии Олег Дурилов по прозвищу Дуримар выводил на бирках фамилии и инициалы воспитанников. Изделия получались исключительно аккуратненькие и по-своему красивые. Эти красненькие полоски украшали грудь большинства воспитанников, так как большинство из них сотрудничало с администрацией.
На «черной» зоне, где-нибудь в каптерке бугра-бригадира собираются урки и воры и под махровый, крепкий чефир решают, как будут мужички на зоне жить. И администрация вынуждена считаться с подобным положением вещей.
На «красной» зоне дела обстоят ровным счетом наоборот. Здесь музыку заказывает сама администрация. Пластинки на патефоне под названием жизнь она меняет по своему усмотрению, не считаясь с мнением воров. А самих воров всячески гнобит и притесняет.
На глаз, зона, которой руководил Александр Иванович была «красной» – красней некуда…
ДРУГ МОЙ, ДУЧЕ
Наиболее сложной выглядела система внутренней самоорганизации колонии. Это был удивительный продукт, над совершенствованием которого Александр Иванович тоже трудился неустанно. Зона делилась на отряды, человек по сто. Отряды – на отделения, в которых насчитывалось человек по двадцать воспитанников. Во главе отряда находился бугор, он осуществлял общее руководство. Чтобы воспитанники не надавали друг другу по мордасам, не отнимали вещи, вообще не делали глупостей, за ними присматривал мент. Вопросы, связанные с порядком, находились в его ведении. Был еще санитар. Этот наделенный властью воспитанник старался делать все, чтобы ребятишки выглядели не как обормоты. Голова приличного пацана должна была быть вовремя постриженной, шея чистой. Полагалось ему ходить в надраенных до блеска сапогах, носить опрятную одежду. За всем этим и следил санитар.
В отряде имелись специальные соглядатаи. Подобно служившим немцам полицаям, они зорко следили за тем, что происходило в отряде. Если случались какие безобразия – немедленно докладывали буграм, ментам и санитарам. Эти ревностные помощники администрации носили на рукавах специальные красные значки – косяки. Были они воспитанниками глубоко презираемы, но сам факт их присутствия в отряде сдерживал ребятишек, ограничивал буйство их преступной фантазии.
Структурно соглядатаи входили в комитет внутреннего правопорядка – КВП, который сплошь состоял из воспитанников, сотрудничавших с администрацией. В него входили бугры, менты, санитары, каптерщики, банщики, шныри-дневальные. В КВП же числились баландеры, бесконвойники, библиотекари, художники. Занять даже мало-мальскую должность без «презренного косяка», членства в КВП, не представлялось возможным. Но именно сотрудничество с администрацией открывало активистам заветную дорогу к условно—досрочному освобождению.
Вертикаль власти на уровне отряда замыкалась на воспитателе – человеке из системы управления и наказания – УИН. Уиновец, как полагается, был человеком офицерского звания. Он, безусловно, имел опыт общения с несовершеннолетней публикой, которая с младых лет обзавелась дурной привычкой измываться над законом и по этой причине «наблюдала небо в клетку».
Воспитатель отряда был призван всеми силами отучать ребятишек совершать плохие поступки. В широком смысле его миссия сводилась к тому, чтобы выправить «кривую» судьбы воспитанников и сделать все, чтобы эта «кривая» вновь не привела их к воротам тюрьмы.
Структуру отряда копировала вертикаль власти уже самой колонии. Во главе ее также находился бугор. Ему помогали мент и санитар. Был у колонии и свой главный воспитатель, были свои рыскавшие по зоне соглядатаи с «косяками». Пристально следила за колонией оперчасть, помогали ей многочисленные стукачи, которые имелись во всех отрядах и отделениях и «шуршали» неустанно.
В целом вертикаль власти колонии выглядела мощной и изящной, пронизывала ее, колонию, насквозь, «сидела» во всех порах, кишках и печенках воспитанников.
Зона напоминала идеальную, саморегулирующуюся систему, общество тотального самоконтроля. Бугры руководили, менты следили за порядком, санитары присматривали за внешним видом. Соглядатаи из КВП, как индикаторы, чутко реагировали на ситуацию. Стукачи стучали…
Основатель советской воспитательно-принудительной педагогической системы Антон Семенович Макаренко, будь жив, мог бы гордиться своим последователем в лице товарища полковника.
Диктаторы типа Пиночета, итальянского Дуче, испанского Франко должны были бы снять шляпу перед Александром Ивановичем. Товарищ полковник, сам того не подозревая, олицетворял их заветную мечту. Диктаторы всех мастей мечтают о саморегулируемом обществе, которое само себя ставит в рамки, само за собой следит, само себя может высечь, как унтер-офицерская вдова. Как раз таким обществом, как бы в миниатюре, Александр Иванович и рулил успешно.
Даже в курилку в его колонии нельзя было ходить без строя, и строй должен был состоять не менее чем из пяти человек. Выстраивалась следующая конфигурация: четыре воспитанника и бугор с красненькой бирочкой, который командовал строем. А если б кому-нибудь вздумалось болтаться без строя – его незамедлительно, в буквальном смысле, брали «на карандаш» соглядатаи и доносили куда следует.
В самом отряде, внутри, тоже возбранялось шляться из отсека в отсек без дозволения. Все находилось под контролем.
Строем же воспитанники ходили в школу, строем шли на производство, в столовую, в баню, в клуб. Хождение вне строя считалось нарушением и влекло наложение взыскания. Любителей болтаться вне строя ставили в наряды: чистить картошку, подметать плац, стричь траву, красить скамейки, белить урны и так далее.
С утра до вечера на зоне гремели песни. По заведенной традиции во время хождения строем полагалось «затянуть мелодию». Пели про День Победы, «Смуглянку», «Синий платочек». А бугор 22 отделения Хрунов заставил вызубрить воспитанников слова песни «Распрягайте, хлопцы, коней…
Дубаки на вышках в этой колонии могли скучать и читать журнальчики, жарить яичницу, катать бильярдные шары – вообще жить отвлеченной от зоны жизнью. Никто бы из нее не убежал. А ежели б кто дерзнул – сами бы воспитанники этого нахала изловили, хорошенько «съездили» бы по морде и с легким сердцем сдали гражданину начальнику.
ТОВАРИЩ УЗЮКИН
Александр Иванович кинулся было к парадному кителю, но потом махнул рукой и стремительно двинулся к зданию Дворца культуры, где заседал областной суд. У входа в ДК он заметил Иллариона Сергеевича Узюкина, председателя областного суда. Илларион Сергеевич был бледен, на его длинноватой, типа гусиной шее мощно выделялась пульсирующая вена. В то же время кончик правого, простреленного на фронте немецким снайпером уха судьи «горел» алой лампочкой.

