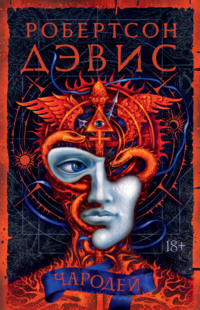Полная версия
Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея

Робертсон Дэвис
Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея
Robertson Davies
The Cornish Trilogy:
THE REBEL ANGELS
Copyright © Robertson Davies, 1981
WHAT'S BRED IN THE BONE
Copyright © Robertson Davies, 1985
THE LYRE OF ORPHEUS
Copyright © Robertson Davies, 1988
This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency
All rights reserved
© Т. П. Боровикова, перевод, примечания, 2012, 2013
© Д. Н. Никонова, перевод стихов, 2012, 2013
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство Иностранка®
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
* * *Робертсон Дэвис – один из величайших писателей современности.
Малькольм БредбериРобертсон Дэвис – один из эрудированных, занимательныйх и во всех отношениях выдающихся атворов нашего времени.
The New Yirk Times Book Review«Мятежные ангелы» – поразительный и поразительно остроумный роман. Дэвис вновь подтвердил свою репутацию первоклассного рассказчика с великолепным чувством комического.
Newsweek«Что в костях заложено» – изысканная пища для ума и отменное развлечение для чувств.
Time«Лира Орфея» – идеальный роман для того, чтобы расслабиться у камина, для обсуждения с близкими, для чтения вслух.
The Boston GlobeДоподлинный шедевр, который покорит читателей всего мира, – ничего другого и не ждали от канадского живого классика и виртуоза пера.
Chicago Tribune BooksРобертсон Дэвис всегда был адептом скорее комического, чем трагического мировоззрения, всегда предпочитал Моцарта Бетховену. Это его сознательный выбор – и до чего же впечатляет результат!
The Milwaukee JournalКем Данте был для Флоренции, Дэвис стал для провинции Онтарио. Из истории жизни этих людей, с их замахом на покорение небесных высот, он соткал увлекательный вымысел.
Saturday NightПсихологизм для Дэвиса – это все. Он использует все известные миру архетипы, дабы сделать своих героев объемнее. Фольклорный подтекст необъятен… Причем эта смысловая насыщенность легко воспринимается благодаря лаконичности и точности языка.
Книжное обозрениеМятежные ангелы
Второй рай I
1– Парлабейн вернулся.
– Что?
– Вы не слыхали? Парлабейн вернулся.
– О боже!
Я спешила по длинному коридору, продираясь сквозь болтовню студентов и сплетни преподавателей, и вновь услышала то же в разговоре двух сотрудников колледжа.
– Вы, наверно, не знаете про Парлабейна?
– Нет. Что я должен знать?
– Он вернулся.
– Сюда?
– Ну да. В колледж.
– Не насовсем, я надеюсь?
– Кто знает? С Парлабейном никогда не скажешь.
То, что надо. Мне будет что сообщить Холлиеру, когда мы встретимся после почти четырехмесячной разлуки. В нашу последнюю встречу он стал моим любовником, – во всяком случае, мне лестно было так думать. Несомненно, он стал предметом моей мучительной любви. Все летние каникулы я не находила себе места, маялась и надеялась на открытку из Европы, из неведомых краев, где скитался Холлиер. Но он не из тех, кто посылает открытки. И не из тех, кто много говорит о своих чувствах. Но и на него порой находит. В тот день, в начале мая, когда он рассказал мне о своем последнем открытии, а я – охваченная жаждой служить ему, завоевать его благодарность и, может быть, даже любовь – совершила непростительное и выдала ему тайнубомари, он, кажется, взмыл на крыльях чувства и именно тогда заключил меня в объятия, уложил на этот ужасный диван у себя в кабинете и овладел мною под скрип пружин, в путанице одежды, в страхе, что нас кто-нибудь застанет…
На этом мы расстались: он – смущенный, я – исполненная изумления и преданности, а сейчас мне предстояло снова его увидеть. Мне нужна была вступительная реплика.
Так – два этажа вверх по винтовой лестнице, а потолки в колледже Святого Иоанна такие высокие, что это больше похоже на три этажа. Почему я спешила? Из желания поскорей его увидеть? Конечно, я хотела этого, но и страшилась. Как приветствовать своего профессора, своего научного руководителя, которого ты любишь, который имел тебя на старом диване, на ответную любовь которого ты надеешься? Я начала думать о себе во втором лице – верный признак, что мой английский костенеет, становится чересчур ходульным. Я встала, запыхавшись, на лестничной площадке, где единственная дверь вела в его комнаты, а на двери висело старое рукописное объявление: «Профессор Холлиер у себя. Стучите и входите». Я повиновалась и узрела его за столом, подобного Данте (будь у Данте получше с передними зубами) или, быть может, Савонароле (будь Савонарола красивее). Запинаясь – у меня слегка кружилась голова, – я выпалила свою новость:
– Парлабейн вернулся!
На такой эффект я даже не рассчитывала. Он выпрямился в кресле, и хоть челюсть у него не отвисла, но мышцы ее заметно ослабли, а на лице появилась та сосредоточенность, которую я в нем любила даже больше улыбки (улыбка ему не очень шла).
– Вы сказали, что Парлабейн вернулся?
– Да, об этом говорят в коридорах.
– Боже, какой ужас!
– Почему ужас? Кто такой Парлабейн?
– Боюсь, вы и сами скоро узнаете. Хорошо отдохнули за лето? Как успехи в работе?
Ни намека на приключение на диване, который стоял тут же и казался мне самой важной вещью в комнате. Лишь сухие профессорские вопросы о работе. Конечно, ему плевать, как я отдохнула. Его интересует только моя работа – крохотная, ничтожная составная частица его собственной. Он даже не предложил мне сесть, а я не так воспитана, чтобы без приглашения садиться в присутствии преподавателя. Так что я начала рассказывать про свою работу; через несколько минут он заметил, что я стою, и махнул рукой в сторону стула. Мой отчет его удовлетворил.
– Я устроил так, чтобы в этом году вы работали тут. Конечно, у вас где-то есть свой закуток, но тут вы сможете разложить книги, бумаги, оставлять вещи на ночь. Я очистил для вас вот этот стол. Мне нужно, чтобы вы были рядом.
Я затрепетала. Трепещут ли еще девушки в наше время, когда их любовники выражают желание, чтобы они были рядом? Я – да. Но тут…
– Знаете зачем?
Я покраснела. Я хотела бы не краснеть, но в двадцать три года я все еще краснею. Я не смогла выговорить ни слова.
– Не знаете, конечно. Откуда вам. Но я скажу, и вы будете прыгать от счастья. Сегодня утром умер Корниш.
О, отчаянье неразделенных чувств! Диван и то, что он означает, совсем ни при чем.
– Я, кажется, не знаю, кто это.
– Фрэнсис Корниш, несомненно, самый крупный… был самым крупным покровителем, ценителем и знатоком искусства, когда-либо жившим в Канаде. Он был невероятно богат и не жалел денег на картины. Они все отойдут Национальной галерее; я знаю, потому что я исполнитель его завещания. Он также был весьма сведущим коллекционером книг, и они отойдут университетской библиотеке. Но он был также и не очень сведущим коллекционером рукописей; он сам не знал своих богатств, его так завораживали картины, что времени на прочее у него уже не оставалось. Рукописи тоже отойдут университетской библиотеке. И одна из них ляжет в фундамент вашей научной карьеры, что и мне, надеюсь, тоже будет полезно. Как только мы заполучим эту рукопись, вы приступите к серьезной работе – работе, которая должна будет поднять вас на несколько ступеней академической лестницы. Эта рукопись ляжет в основу вашей диссертации. И это будет не какой-нибудь плесневелый, засаленный обрывок, с какими приходится иметь дело большинству студентов. Она может стать бомбой, небольшой сенсацией в исследованиях эпохи Возрождения.
Я не знала, что сказать. Мне хотелось воскликнуть: неужели я опять всего лишь ваша студентка, после того что произошло на этом диване? Как вы можете быть таким бесчувственным, профессором до мозга костей? Но я знала, что он ожидает услышать, и произнесла нужные слова:
– Замечательно! Просто потрясающе! А что это за рукопись?
– Я еще не знаю – знаю только, что она по вашей части. Вам понадобятся все ваши языки – французский, латынь, греческий и, может быть, придется еще подтянуть древнееврейский.
– Но что же это? То есть, если вы не знаете, что это за рукопись, почему она вас так интересует?
– Я могу только сказать, что она совершенно особенная и может произвести эффект… разорвавшейся бомбы. Но мне надо до обеда переделать много дел, так что поговорим потом. А вы за это утро перенесите сюда свои вещи и повесьте на дверь записку, что вы тут работаете. Рад был вас снова увидеть.
С этими словами он зашаркал старыми шлепанцами по ступенькам, ведущим в большую внутреннюю комнату: она служила ему личным кабинетом, и там же за ширмой стояла его раскладушка. Я это знала, потому что однажды, в его отсутствие, заглянула туда. Он выглядит как тысячелетний старик, подумала я, но все эти академические волшебники – оборотни: если работа пойдет хорошо, через два часа он выпорхнет из этой двери, выглядя на тридцать вместо своих законных сорока пяти. Но сейчас он изображал Дряхлого Ученого Старца.
«Рад был вас снова увидеть»! Ни поцелуя, ни улыбки, даже руку не пожал! Разочарование пропитывало меня, словно яд.
Но у меня впереди много времени, и я буду работать во внешней комнате у Холлиера, постоянно у него на глазах. Время творит чудеса.
Я уже достаточно заразилась вирусом научного любопытства, чтобы ощущать и другую надежду, отчасти скрасившую мое разочарование. Что же это за рукопись, о которой он так ничего и не сказал?
2После обеда, когда я раскладывала на столе во внешней комнате свои бумаги и прочие вещи, в дверь тихо постучали и вошел человек, который не мог быть никем, кроме Парлабейна. Всех остальных в колледже Святого Иоанна, кто ходил в таком виде, я знала. Он был в сутане или одеянии вроде монашеского, слегка похожем на маскарадный костюм, что выдавало в нем англиканина, а не католика. Но это не был ни один из преподавателей богословия нашего колледжа.
– Я брат Джон, или доктор Парлабейн, если вам так удобнее; профессор Холлиер у себя?
– Я не знаю, когда он вернется, но точно не раньше чем через час. Передать ему, что вы заходили?
– Дорогая, из ваших слов следует, что вы ожидаете моего немедленного ухода. Но я не тороплюсь. Давайте поболтаем. Кто вы?
– Я аспирант профессора Холлиера.
– И работаете в этой комнате?
– Да, с сегодняшнего дня.
– Значит, вы не простая аспирантка, раз вас допустили работать в такой близости к великому человеку. Ибо он – поистине великий человек. Да, мой старый однокашник Клемент Холлиер стал поистине великим человеком средь тех, кто понимает, что он делает. Я полагаю, вы принадлежите к их числу?
– Я его аспирант, как я уже сказала.
– Но вас, несомненно, как-нибудь зовут, дорогая.
– Мисс Феотоки.
– О, какое имя! Бриллиант среди имен! Цветок во рту! Мисс Феотоки. Но, конечно, это еще не всё?
– Если уж вы так настаиваете, меня зовут Мария Магдалина Феотоки.
– Все лучше и лучше! Но какой контраст! Феотоки[1] – с отчетливым ударением на первое «о» – в сочетании с именем грешницы, из коей Господь наш изгнал семь бесов. Вы не канадка, я полагаю?
– Канадка.
– Ну конечно. Я забыл, что любая фамилия может оказаться канадской. Но вы, видимо, не так давно приехали в Канаду.
– Я тут родилась.
– Но ваши родители, надо полагать, нет. Откуда же они приехали?
– Из Англии.
– А до Англии?
– А почему вы спрашиваете?
– Потому что я неизлечимо любопытен. А вы возбуждаете любопытство, дорогая. Очень красивые девушки – а вы, несомненно, знаете, что вы очень красивы, – возбуждают любопытство, но в моем случае, могу вас уверить, это любопытство благодушное, отеческое. Вы не можете быть «прекрасной английской розой». Вы нечто более загадочное. Это имя – Феотоки – означает «родительница Бога», так ведь? Вы не англичанка – нет, конечно нет. А посему я задаю вопрос в духе доброго христианского любопытства: где жили ваши родители до Англии?
– В Венгрии.
– Ага, вот оно! И несомненно, ваши почтенные родители имели мудрость унести оттуда ноги из-за беспорядков. Я не прав?
– Правы.
– Откровенность за откровенность. А имена – чрезвычайно важная вещь. Так что я вам расскажу, откуда взялась моя фамилия: она гугенотская, и я полагаю, что когда-то, очень давно, кто-то из моих предков умел красиво говорить и таким образом заслужил это прозвище[2]. Через несколько поколений жизни в Ирландии оно превратилось в фамилию Парлабейн, а теперь, после еще нескольких поколений в Канаде, эта фамилия стала не менее канадской, чем ваша, дорогая. Думаю, глупо было бы полагать, что после пятисот поколений, прожитых где-то в другом месте, мы за один миг – за одну жизнь – становимся полностью канадцами, твердолобыми, деловитыми североамериканцами. Мария Магдалина Феотоки, я полагаю, что мы с вами станем очень добрыми друзьями.
– Да… Извините, мне нужно работать. Профессор Холлиер еще не скоро вернется.
– По счастливому стечению обстоятельств я располагаю нужным количеством времени. Я подожду. С вашего позволения, я устроюсь на этом старом, обшарпанном диване, которым вы не пользуетесь. Что за развалина! Клем никогда не замечал, что его окружает. В этой комнате он весь. И это, конечно, приводит меня в восторг. Я счастлив вновь припасть к лону старого доброго «Душка».
– Должна вас предупредить: декан не любит, когда наш колледж называют «Душком».
– Он такой серьезный человек! Будьте уверены, я никогда не совершу этой ошибки в его присутствии. Но, Молли – я буду звать вас Молли, это уменьшительное от Марии, – как, во имя присносущного Бога, декан может ожидать, что колледж Святого Иоанна и Святого Духа не будут называть «Душком»? Мне нравится название «Душок». Оно ласкательное, а я очень ласковый.
Он уже растянулся на столь памятном мне диване, и стало ясно, что избавления не жди, так что я замолчала и погрузилась в работу.
Но до чего прав Парлабейн! Действительно, в этой комнате весь Холлиер. И весь «Душок» тоже. «Душку» примерно сто сорок лет; он был построен в эпоху, когда университетская готика пожаром пылала в груди архитекторов. Архитектор «Душка» знал свое дело, так что здание нельзя назвать безобразным, но в нем множество странных закоулков и ничем не оправданных архитектурных излишеств. Вот и эти комнаты, в которых жил Холлиер, были расположены неудобно, как-то поперек здания. Чтобы попасть сюда, нужно было подняться на два этажа по винтовой лестнице; это были единственные комнаты на площадке, если не считать коридора, ведущего на хоры часовни, к органу. Внешняя комната, в которой я работала, была большая, с двумя арочными готическими окнами, а вторая, в которой спал Холлиер, располагалась на три ступеньки выше и как бы за углом. Чтобы вымыть руки или воспользоваться уборной, нужно было спуститься на целый высокий этаж, а если Холлиер хотел принять ванну, ему приходилось тащиться в другое крыло здания – в овеянных веками традициях Оксфорда и Кембриджа. Архитектура была настолько готической, насколько этого можно было достичь в девятнадцатом веке. Но Холлиер, начисто лишенный чувства соразмерности, обставил комнаты древним хламом из дома своей матери: все, что стояло на ножках, шаталось, мягкая мебель была неприятно засалена, из нее там и сям лезла набивка. На стенах висели фотографии – студенческие группы ранних лет Холлиера в «Душке». Кроме книг, лишь одна вещь в комнате смотрелась уместно: огромная алхимическая реторта, из тех, что напоминают скульптуру пеликана работы художника-абстракциониста. Реторта стояла на шкафу; ее много лет назад подарил Холлиеру кто-то, не ведавший о его равнодушии к вещам. По нормальным меркам в комнатах Холлиера царил страшный хаос, но в них была определенная соразмерность, даже своего рода гармония. Стоило перестать ужасаться беспорядку, запущенности и, не побоюсь этого слова, грязи, и в комнатах проступала странная красота, как и в самом Холлиере.
Парлабейн пролежал на диване почти два часа и, кажется, все это время не сводил с меня глаз. Мне нужно было уйти по своим делам, но я не собиралась оставлять его тут одного, так что я придумала себе работу и стала размышлять о Парлабейне. Как это он выведал обо мне так много за такое короткое время? Как ему удалось называть меня «дорогая» и ни разу не получить отпора? Да еще «Молли»! Он ломился к цели, как чугунный шар, но этот шар был покрыт слоем чего-то мягкого, маслянистого, и это обезоруживало собеседника. Я начала понимать, почему люди так расстраивались, узнав о возвращении Парлабейна.
Наконец явился Холлиер.
– Клем! Милый, дорогой Клем! Как я счастлив тебя видеть!
– Джон… Я слышал, что ты вернулся.
– Да, а как весь «Душок» счастлив меня видеть! Мне оказали поистине теплый прием – я все утро счищал с рясы изморозь. Но вот я здесь, в обществе старого друга и очаровательной Молли, которая тоже станет мне дорогим другом.
– Ты уже познакомился с мисс Феотоки?
– Дражайшая Молли! Мы с ней отлично поболтали по душам.
– Ну что ж, Джон, давай зайдем ко мне и поговорим. Мисс Ф., я уверен, что вам нужно идти по делам.
«Мисс Ф.» – так он зовет меня в неофициальных разговорах; нечто среднее между официальным обращением и обращением по имени, которым он никогда не пользуется.
Они поднялись по ступенькам во внутреннюю комнату, а я поспешила вниз по винтовой лестнице, нутром чувствуя, что дело очень плохо. У меня впереди вовсе не тот чудесный семестр, которого я ждала и жаждала.
3Я люблю приходить на работу рано; это значит быть за столом в полдесятого, потому что академические работники вроде нас начинают работу поздно и работают допоздна. Я открыла дверь внешней комнаты Холлиера, и меня окатила волна запаха. Так пахнет в комнате с закрытыми окнами, где спят не очень чистые мужчины, – немного похоже на вонь из клетки льва в зоопарке. На диване растянулся крепко спящий Парлабейн. Он был почти полностью одет, только плотную монашескую рясу снял и укрылся ею вместо одеяла. Он со звериной чуткостью мгновенно услышал мое приближение, открыл глаза и зевнул.
– Доброе утро, дражайшая Молли.
– Вы что, всю ночь тут пробыли?
– Великий человек разрешил мне приклонить голову тут, пока в «Душке» не найдется для меня комната. Я забыл заранее предупредить казначея о своем прибытии. А теперь мне нужно помолиться и побриться – по-монашески, в холодной воде, без мыла, разве что в туалете оно найдется. Эти лишения смиряют меня.
Он натянул и зашнуровал пару больших черных ботинок, а потом достал из рюкзака, засунутого за диван, грязный мешок – видимо, с принадлежностями для мытья. Затем он вышел, бормоча что-то себе под нос – надо полагать, молитвы, – а я открыла окна и хорошенько проветрила комнату.
Я проработала, наверное, часа два, разложила бумаги и книги в нужном порядке на большом столе, воткнула в розетку шнур портативной пишущей машинки, когда Парлабейн вернулся, волоча большой, покрытый оспинами кожаный чемодан, который выглядел так, словно его купили на распродаже в бюро находок.
– Дорогая, не обращайте на меня внимания. Я буду вести себя тихо как мышка. Только запихну свой сундук – не находите ли вы, что слово «сундук» больше всего подходит к такому старому чемодану? – вот сюда, в угол, чтобы не болтался у вас под ногами.
Он так и сделал, а затем снова устроился на диване и принялся читать, беззвучно шевеля губами, небольшую толстую черную книжечку. Надо полагать, снова молитвы.
– Простите, доктор Парлабейн, вы собираетесь пробыть тут все утро?
– Все утро, и весь день, и весь вечер. Казначей пока не нашел мне жилья, хоть и был так добр, что разрешил мне есть в общем зале. Если, конечно, это доброта – мои воспоминания о том, как кормят в «Душке», внушают некоторые сомнения.
– Но я работаю в этой комнате!
– Для меня будет огромной честью разделить ее с вами.
– Но это невозможно! Как я буду работать в вашем присутствии?
– Служение науке требует уединения. О, как я вас понимаю! Но любовь к ближнему, дражайшая Молли! Не забывайте о любви к ближнему! Куда же я пойду?
– Я поговорю с профессором Холлиером!
– Я бы на вашем месте сначала хорошенько подумал. Да, возможно, что он велит мне уйти. Но есть некоторая вероятность – и притом немалая, – что он велит уйти вам, в ваш закуток, или как там называются эти чуланчики, отведенные аспирантам. Мы с профессором Холлиером очень старые друзья. Еще с тех пор, когда вас и на свете не было, дорогая.
Я так разозлилась, что не нашла ответа. Поэтому я сбежала и околачивалась в библиотеке, пока не прошло время обеда. Потом вернулась, решив попробовать еще раз. Парлабейн лежал на диване и читал бумаги из папки, взятой с моего стола.
– Добро пожаловать, милейшая Молли! Я знал, что вы вернетесь. Вы ведь не можете долго гневаться. С таким прекрасным именем – Мария, Матерь Божия, – вы, несомненно, само понимание и всепрощение. Но скажите мне, зачем вы так пристально изучаете этого монаха-расстригу, Франсуа Рабле? Видите, я заглянул в ваши бумаги. Рабле вовсе не тот человек, которого я ожидал бы встретить в вашей компании.
– Рабле – одна из величайших недопонятых фигур эпохи Реформации. Я специализируюсь в том числе и на нем.
Как я себя ненавидела за то, что объясняюсь! Но у Парлабейна был чудовищный дар – он умел заставить меня оправдываться.
– Ах, так называемая Реформация. Столько шуму из-за таких мелочей! Действительно ли Рабле был из этих гадких, сварливых реформаторов? Неужели он был заодно с этим несносным Лютером?
– Он был заодно с этим в высшей степени почтенным Эразмом.
– Понимаю. Но все же он был скабрезен. И глубоко презирал женщин, если я правильно помню, хотя прошли годы с тех пор, как я читал его неуклюжий, грубо сплетенный роман о великанах. Но нам с вами нельзя ссориться; мы должны жить в братской любви. Со времени нашего последнего разговора я повидал нашего дорогого Клема, и он разрешил мне остаться тут. Я бы на вашем месте не стал его из-за этого дергать. Его ум, кажется, занят великими вещами.
Значит, он победил! Мне нельзя было уходить. Он добрался до Холлиера первым. Он улыбнулся мне с видом довольного кота:
– Вы должны понять, дорогая, что мой случай – особый. Поистине, всю жизнь я был особым случаем. Но я нашел решение всех наших проблем. Взгляните на эту комнату! Несомненно, это комната средневекового ученого. Вон тот предмет на шкафу – алхимическая принадлежность, даже я это понимаю. Эта комната подобна келье алхимика в каком-нибудь тихом средневековом университете. И она полностью укомплектована! Вот сам великий ученый, Клемент Холлиер. А вот вы – необходимая принадлежность любого алхимика, егоsoror mystica, или подруга по научным занятиям, выражаясь современным языком. Но чего же тут не хватает? Разумеется, нужен еще famulus, доверенный слуга ученого, его преданный ученик и безропотный прислужник. В этом крохотном уголке Средневековья я беру на себя роль фамулюса. Вы поразитесь – сколько от меня пользы. Видите, я уже переставил все книги в шкафу, упорядочив их по алфавиту.
Черт! Я ведь сама хотела это сделать. Холлиер никогда не может ничего найти, такой у него беспорядок. Мне хотелось заплакать. Но я не собиралась плакать перед Парлабейном. Он, однако, не умолкал:
– Надо полагать, в этой комнате убирают раз в неделю? И Холлиер так запугал уборщицу, что она не смеет ничего тронуть или передвинуть? Я буду убирать тут каждый день, чтобы комната была чистая, как… ну, не как свежевыпавший снег, конечно, но более или менее чистая, в той степени, какая терпима для ученого. Чрезмерная чистота – враг творчества, полета мысли. И еще я буду убираться для вас, дражайшая Молли. Я буду уважать вас, как долженfamulus уважать soror mystica своего господина.
– Достаточно уважать, чтобы не рыться в моих бумагах?
– Возможно, не до такой степени. Я люблю знать, что происходит вокруг. Но что бы я ни нашел, дорогая, я вас не выдам. Если бы я выбалтывал все, что знаю, я бы никогда ничего не достиг.
Чего же это он достиг? Монах-оборванец, оправа очков починена изолентой! Но я тут же сама ответила на свой вопрос: он пролез в мой особый мир и уже отобрал у меня большую его часть. Я вызывающе взглянула Парлабейну в глаза, но он лучше меня умел играть в эту игру, и скоро я опять неслась вниз по винтовой лестнице, злая, обиженная, растерянная.
Черт! Черт! Черт!
Новый Обри I
1Осень – наиболее созвучное мне время года; университет – наиболее созвучное обиталище. По опыту всех лет, когда я был студентом, а позже – преподавателем, я заметил, что в первый день учебного семестра всегда бывает хорошая погода. Шагая по кленовой аллее, ведущей к университетскому книжному магазину, я был, по-видимому, счастлив – настолько, насколько я вообще способен быть счастливым, а я по натуре склонен к счастью, или же к воодушевленному труду, что для меня одно и то же.