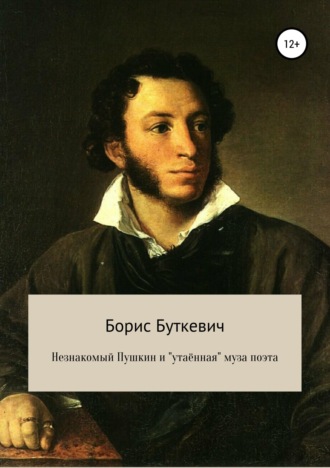 полная версия
полная версияНезнакомый Пушкин и «утаённая» муза поэта
Ведь почти все промелькнувшие в ее мыслях имена мы находим теперь в научной литературе, посвященной этим гениям русской поэзии. Так, в книге Л.А.Черейского указывается, что Пушкин был знаком не только с самим Клейнмихелем, но и с его женой Клеопатрой Петровной. Николай Александрович Огарев (крестный отец внуков Анны Андреевны) – однополчанин и приятель близкого друга Пушкина А.О. Россета. В 1833 году Пушкин писал жене из Болдина: «Кто же еще за тобой ухаживает, кроме Огарева?» Платон Пищевич (муж одной из ее дочерей) – с 1836 года поручик Гусарского полка, знакомый Карамзиных и, по-видимому, Пушкина. Многочисленные знакомства Карамзиных и их ближайших друзей с офицерами гвардейских полков, представляющими, в основном, самые аристократические фамилии, широко известны. Достаточно сказать, что из 43-х офицеров Гусарского полка (в октябре 1838 года) более 30 были знакомы Карамзиным, бывали у них в гостях, в разное время общались с Пушкиным, дружили с Лермонтовым. Однако, кроме приведенных воспоминаний Боборыкина и несмотря на все сказанное, мы не знаем в этой связи ни одного упоминания о Череповых. Трудно сказать, является ли это «роковой» случайностью или же отражает прекращение в силу каких-то причин дальнейших, после школы, близких контактов и связей.
Казалось бы, братья Череповы соответствовали всем требованиям, предъявляемым к офицерам гвардии. Они были богаты, родственными узами близки к самым знатным фамилиям. Брат их отца, Степан Кириллович, был женат на княжне Щербатовой, имел от нее трех дочерей, среди которых первенство по красоте принадлежало старшей, Марии Степановне (в замужестве Линеман).
На фамильном портрете «она представлена бессмертным Кипренским отдыхающей после бала, с увядающим цветком на нежного лубом корсаже». Судьба этого портрета, к сожалению, неизвестна. Все это еще раз подтверждает, что великосветской родни Череповым было не занимать, а фамилия Щербатовых дает повод вспомнить об известном увлечении Лермонтова княгиней Щербатовой, породившем один из шедевров лирики поэта:
«На светские цепи
На блеск утомительного бала
Цветущие степи
Украйны она променяла»
«написано немало восторженных слов, но мы привели эти строки еще и потому, что далее пойдет речь о документально подтвержденном разговоре, вернее, рассказе, самого поэта о посещении им небольшого украинского имения Арсеньевых.
В упомянутых выше воспоминаниях А.В. Мещерского говорится о его встречах с поэтом в 1840 году. Вот что пишет мемуарист об одной из этих встреч: «В другой раз была серьезная беседа об интенсивном хозяйстве, о котором в настоящее время так много пишут в журналах и о чем тогда уже заботились. Лермонтов, который питал полное недоверие и обнаруживал даже некоторое пренебрежение к сельскому хозяйству, называя его ковырянием земли, сказал мам при этом, что сам недавно был в своем маленьком имении в Малороссии, откуда не получал никакого дохода. Его долготерпение, наконец, истощилось, и он поехал туда, чтобы лично убедиться в причине бездоходности имения. «Приезжаю, – говорит Лермонтов, – в деревню, призываю к себе хохла-приказчика, спрашиваю, отчего нет никакого дохода? Он говорит, что урожай был плохой, что пшеницу червь испортил, а гречиху солнце спалило. Ну, а спрашиваю, скотина что? – Скотина, говорит приказчик, ничего, благополучно. – Ну, я спрашиваю, а куда же молоко девали? – На масло били, отвечает он. – А масло куда девали? – Продавали, говорит. – А деньги куда девали? – Соль, говорит, куповали. – А соль куда девали? – Масло солили. – Ну, а масло куда девали? – Продавали. – Ну, а деньги где? – Соль, говорит куповали!.. И так далее, и так далее. Не истинный ли это прототип всех ваших русских хозяйств? – сказал Лермонтов и прибавил: «Вот вам при этих условиях, не угодно ли завести интенсивное хозяйство!.. «Лермонтов хорошо говорил по-малороссийски и неподражаемо умел рассказывать малороссийские анекдоты…»
Эти воспоминания были впервые опубликованы в 1900 году. Тогда же, как приложение к ним, появились «Заметки к биографии Лермонтова» некоего А.И. Маркевича, который, говоря о том, где было это неизвестное имение Лермонтова, писал: Верстах в семи от моего родного села Смоши находится значительное местечко Переволочно (Полтавской губ. Прилуцкого уезда) на реке Удае. Почти при въезде в местечко, по Роменской дороге, расположена прекрасная усадьба, в которой дом … и сохранился весьма старинный тенистый сад.
Усадьба эта, а также известное число крестьян и десятин земли, принадлежала Арсеньевны, и я хорошо помню рассказы, что сюда наезжала некогда очень важная старая барыня, Арсеньева же; и это относится к 30-40 годам. Весьма соблазнительно думать, что именно здесь было имение, о котором упоминает князь А.В. Мещерский, не Лермонтова, конечно, а его бабушки, которой он был единственным прямым наследником…» Мы привели эти выдержки не только как малоизвестные. Важным для нас является здесь то обстоятельство, что расстояние от усадьбы Арсеньевой до родового гнездовья Череповых – Грузского, где в те годы хозяйничала Анна Андреевна, составляло всего около ста верст, то есть не менее одного дня пути. И если предположить, что Лермонтов приезжал в свое имение в конце 1830 -х годов, как это следует из его рассказа, допустим, весной или осенью 1839 года, то он вполне мог навестить своих однополчан, быть гостем на свадьбе того же Пищевича с их сестрой Варварой.
Все это еще требует поисков и уточнений. В заключение рассказанного, или, вернее, подсказанного портретом, найденным среди мусора, добавим, что Андрей Леонтьевич Черепов, умерший в 1881 году, к концу жизни был одинок, и его маленькое имение Землянка, вблизи Грузского, перешло к его племянникам Леонтию и Владимиру Николаевичам.
Наша старинная знакомая16, о которой мы упоминали в начале рассказа, провела свои детские годы в Грузском. Не раз гостила она и в Землянке у своего двоюродного деда Владимира Николаевича. В одном из своих рассказов о впечатлениях тех лет она вспоминала, что в Землянке, в бильярдной, стояло два бильярда, один из которых был особенно любим ее дедом, он называл его почему-то (оттого и врезалось в память) бильярдом Мишеля. Какого Мишеля и почему, она не знала. Среди потомков Леонтия Кирилловича и Анны Андреевны Череповых не было никого, кто бы носил это имя…
…Надеемся, читатель не удивляется, казалось бы, неожиданному экскурсу в биографию М.Ю. Лермонтова в нашей любительской пушкиниане хотя бы потому, что случайность – воистину лишь проявление необходимости. А также потому, что нас не может оставить равнодушными предположение, что оба они посещали дом – «комод».
Вера Молчальница
Был жаркий июньский полдень, когда добрался я до деревни Сырково, что возле Новгорода, в паре километров от его северной окраины. Собственно, интересовала меня не сама деревня, ничем особенно не примечательная и почти слившаяся уже с городскими новостройками, а находившийся когда-то здесь Сырков женский монастырь, основанный еще во времена Ивана Грозного неким дьяком Федором Сырковым во исполнение данного им по какому-то случаю обета.
По пути сюда не устаешь любоваться красотой древнего города, с золотыми куполами его кремлевских соборов, белоснежными храмами Ярославова дворища, окруженными зеленью газонов, многоцветьем ярких цветов на ухоженных клумбах, пестрыми, оживленными группами наших и иностранных туристов, восхищающихся всей этой сказочной красотой, без конца щелкающих фотоаппаратами… Здесь же все было по-другому.
Сюда не возят туристов, тут не увидишь их фешенебельных автобусов. Справа от пыльного, щербатого шоссе несколько деревенских улочек, полных разнообразия современного сельского зодчества от кирпичных коттеджей до перекошенных, зарывшихся в землю избушек в три крохотных оконца. А слева, за сельмагом и беспредельно унылыми, барачного вида домами, что тянутся вдоль дороги, на заросшем бурьяном и высокой травой пустыре находится… все, что осталось от монастыря, – обшарпанная, ставшая почти бесформенной громада бывшего Владимирского собора.
Чуть дальше в столь же плачевном виде еще одна церковь, а правее – двухэтажное здание келейного корпуса, смотрящего теперь на мир черной пустотой выбитых окон. На нем нет даже таблички, такой, как те, что прибиты у дверей бывших храмов и на которых еще можно прочитать, что это – памятники архитектуры XVI века, охраняются государством и повреждение их карается законом. Вот такую грустную картину пришлось мне увидеть в тот день и успокаивать себя тем, что просто не дотянулись еще сюда руки новгородских реставраторов, сумевших буквально из руин возродить свой Великий Новгород. Усмехнулся я тогда и по поводу своей наивной надежды отыскать здесь одну старую могилу, где в 1861 году была похоронена много лет жившая при монастыре таинственная Вера Молчальница. Упоминание об этой удивительной подвижнице я встречал в нескольких старинных книгах, где, кстати, говорилось, что спустя немало лет после смерти над ее могилой служили панихиды, а многие и многие богомольцы искали и находили возле нее утешение своим духовным и физическим страданиям.
И решил я тогда пойти к людям, то есть перейти шоссе и попытаться разузнать что-либо у сельских старушек. На первой же улице спросил я встречного прохожего, где можно отыскать самую древнюю старушку, обязательно верующую и чтоб была еще в памяти. Ответ получил сразу же:
– Так это вам надо бабку Анисью поспрашать.
– А сколько ей?
– Да, верно, под сто.
– А живет где?
– Так вот за углом, направо третий дом, во дворе красный «Москвич» стоит, увидите.
Все так и оказалось. И дом красивый, ухоженный, и «Москвич» во дворе. Здесь же молодая пара с транзистором. Вошел в калитку, спрашиваю, дома ли бабушка Анисья? Молодые переглянулись, с опаской, как показалось, посмотрели на меня, на болтающийся фотоаппарат.
Девушка, подойдя к веранде, позвала:
– Баб, здесь бабушку Аню спрашивают.
Из дома вышла пожилая женщина, на вид лет за шестьдесят, смуглая, худощавая, с тяжелым узлом волос на затылке.
– Вам бабушку Анисью? Ее нет, она на работе.
– Как на работе?
– Да так, она в церкви работает, только к вечеру будет, далеко это. А зачем она вам?
Я представился: корреспондент из Москвы, интересуюсь стариной, хотел спросить, не знает ваша бабушка чего-либо о Вере Молчальнице, не помнит ли, где была ее могила? Мария Лукинишна, так звали хозяйку дома, чуть помолчала, словно что-то взвешивая, потом просто сказала:
– Так у нас в деревне все местные, кто до войны здесь родился, все про Веру Молчальницу знают, и память ее чтут. И место, где могила ее была, знают, если хотите, пойдемте покажу?
Уже на улице она, усмехнувшись, добавила:
– Я здесь много лет депутатом райсовета была, сами понимаете, приехали бы вы годков пять назад, вряд ли бы я вам что рассказала и показала, а теперь, слава Богу, время другое, теперь можно. И ведь дело-то не в том, что эта Вера в монастыре жила, что в Бога верила, тогда ведь все верили, что обет молчания на себя до гроба наложила, как говорят, чужие или свои грехи искупить хотела. Нет, совсем не в этом, а в том, что очень людей она любила, жалела их и помогала каждому, чем могла, от души помогала… Вот народ и помнит…
– А кто же была она, эта Вера, раньше, до монастыря, до всего этого? – спросил я.
– Так кто же знает? Скрыла она свое прошлое и тайну эту с собой унесла. Хотя разные люди по-разному рассказывали… Вот, подождите, захватим с собой двух моих одноклассников, вот они, на скамеечке.
Мы проходили мимо дома, где на лавочке у забора сидели, покуривая, двое пожилых мужчин. Мария Лукинишна познакомила нас, объяснила, в чем дело. Оба охотно пошли с нами. Остановились против южной стены Владимирского собора. Один из мужчин, тот, что представился Иваном Михайловичем, уверенно направился к чуть выступающему из стены пилону с обитой внизу штукатуркой. Не доходя до него метра два, там, где гуща травы была сплошь покрыта белыми полевыми ромашками, стал, слегка топнул ногой.
Обращаясь к своим друзьям-одноклассникам, спросил утверждающе:
– Здесь?
– Да, да, верно, здесь и была могила Молчальницы, – сказала Мария Лукинишна, – как сейчас помню, памятник стоял из черного камня в виде гроба на львиных лапах, и надпись была, и всегда цветов много. А помните, – продолжала она, – когда в тридцатые годы ломали звонницу, так большой
колокол сорвался и, упав, накрыл собой Верину могилу? Сам от удара треснул, но не распался и могилу сохранил. Об этом народ тогда много судачил.
– Ну, а куда же потом надгробие делось? – спросил я.
– Так это уже во время войны все порушили. Да разве только его? Здесь вокруг собора целое кладбище было: могилы, плиты, памятники. Вот, рядом с могилой Молчальницы, тоже богатая могила была – игуменьи Александры. А сколько цветников кругом, сад фруктовый был, оранжерея зимняя… да мало ли чего. В трудные годы все пропало…
– Ну, это ты, Марья, зря, – перебил ее Иван Михайлович, – камень с Вериной могилы и теперь еще цел, не верите? Пойдемте, покажу.
Он повел нас к келейному корпусу, к одному из его углов, слегка осевшему в землю, отчего по образующим его стенам струились извилистые трещины. У основания угла темнела большая, заросшая бурьяном яма. Иван Михайлович спустился в нее, стал на колени и вырвал, примял густую зелень. В самой глубине, на уровне кирпичного фундамента ясно виднелся край черного полированного камня, уходящего под угол дома.
– Это когда здесь немцы стояли, перед их приходом от обстрела угол осел, так они его этим камнем с могилы Молчальницы укрепили, мне отец рассказывал, он сам видел, – добавил Иван Михайлович.
Уже идя обратно, я снова спросил, на этот раз уже у мужчин, о том, кто же была -в миру Вера Молчальница?
–Да всякое рассказывали, одни, что просто нищенка блаженная. Другие что, наоборот, из очень богатых, из помещиков, грехи здесь замаливала, а некоторые старики и подавно говорили, что это царица Елизавета, жена Александра Первого. Что когда он помер, она следом все так сделала, будто тоже умерла, а вместо себя другую покойницу подставила, сама же здесь в монастыре зачем-то скрывалась и даже молчальницей стала, чтоб случаем не проговориться. Ну, да в это мало кто верил.
Выйдя на шоссе, мы подошли к остановке автобуса. Я сердечно поблагодарил своих провожатых, мы расстались, и час спустя я снова был в Новгороде.
Должен признаться, что, расспрашивая местных старожилов о том, кто была эта женщина, я умышленно допустил маленькую хитрость, сделав вид, что плохо знаком с ее историей. Мне интересно было выяснить, что знают о ней, и знают ли что-либо вообще, сегодняшние жители деревни Сырково, если – да, то насколько трансформировались в народной памяти связанные с этой историей легенды. В остальном же, наверно, только мне и довелось за последние шестьдесят лет с возможной полнотой попытаться проследить жизнь этой Молчальницы, обобщить то немногое, что сохранилось о ней в книгах, в воспоминаниях современников.
Этот интерес объясняется не только ее действительно необычной от рождения и до смерти судьбой, но, главное, тем, что волею исторической случайности, как ее семья, так, возможно, и она сама, находились в числе ближайшего окружения Пушкина в годы его петербургской юности и тем, что это обстоятельство на сегодня совершенно не нашло отражения в литературе о жизни поэта.
Так кто же была в действительности Вера Молчальница? Прежде чем рассказать о том, что доподлинно известно о ее жизни, остановимся в нескольких словах на сохранившемся, как оказалось, до наших дней предании о тождестве ее с императрицей Елизаветой Алексеевной. Начало ему было положено почти одновременно с возникновением легенды о старце Федоре Кузьмиче, под именем которого, инсценировав свою смерть, якобы скрывался Александр Первый, решивший таким образом отказаться от власти и подвижнической, праведной жизнью, молитвой и кротостью искупить грех участия в убийстве своего отца Павла I. А поскольку императрица умерла всего через полгода после кончины мужа, то вскоре возникла легенда, что и она, последовав его примеру, организовала свою ложную смерть и похороны, а затем тоже «удалилась от мира».
В подтверждение приводились рассказы о странных обстоятельствах ее смерти в городе Белеве, на пути из Таганрога в Петербург, о появлении затем в Сибири, в Томском округе, таинственной странницы, в которой речь и манеры выдавали особу из высшего общества. Реальным же подтверждением этому и подобным рассказам послужило действительное появление уже в новгородской губернии, в середине 1830-х годов, а затем в Новгородском женском Сырковом монастыре (с начала 40-х годов) некой, как она себя называла, девицы Веры Александровны, принявшей обет молчания и, как считалось, так и не открывшей тайну своего истинного происхождения.
Эта тайна была, вероятно, известна только графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской, «духовной дочери» пресловутого архимандрита Фотия, всячески покровительствовавшей Молчальнице. Сама же Вера Александровна лишь письменно отвечала: «Я – прах земли, но родители мои были так богаты, что я горстями выносила золото для раздачи бедным, а крещена я на Белых Берегах».
Как правильно рассказывали мне в Сыркове, ее могила находилась рядом с могилой игуменьи Александры (в миру Шубиной), бывшей крестной матерью императрицы Елизаветы Алексеевны, что тоже способствовало утверждению легенды. На надгробии Молчальницы была надпись: «Здесь погребено тело возлюбившей Господа всею крепостью души своея и ЕМУ ЕДИНОМУ ИЗВЕСТНОЙ рабы Божией Веры, скончавшейся в 1861 году мая 6-го дня, в шесть часов вечера, жившей в сей обители более 20 лет в затворе и строгом молчании, молитву, кротость, смирение, истинную любовь ко Господу и сострадание к ближним сохранившей до гроба и мирно предавшей дух свой Господу».
Любопытные воспоминания, не лишенные, правда, излишнего вымысла, оставил о Вере Молчальнице некто граф М.В. Толстой, путешествовавший в середине прошлого века по российским монастырям. Его записки были опубликованы в журнале «Русский Архив» за 1881 год. Вот что он писал: «В шести верстах к северу от Новгорода находится женский Сырков монастырь, окруженный со всех сторон лесами и болотами. Там, как случайно услышал я в Новгороде, жила старушка, по имени Вера Александровна, положившая на себя обет молчания. Об ней я узнал много любопытных подробностей. Кто она и откуда никто не знает. Лет двадцать перед тем она была задержана полицией, как беспаспортная, и заключена в тюрьму в Новгороде. От туда написала она письмо к графине А.А. Орловой-Чесменской, жившей тогда на своей даче близ Юрьева монастыря. Прочитав письмо и переговорив с неизвестной арестанткой, которая на все вопросы отвечала письменно, графиня поспешила в Петербург и передала лично письмо ее Императору Николаю Павловичу. Вскоре последовало повеление предложить Вере Александровне пребывание в одном из Новгородских женских монастырей, по ее выбору, с тем, что для нее будут построены хорошие кельи на казенный счет.
С этого времени Вера Александровна поселилась в Сыркове монастыре и получала ежегодное пособие от Государя. В 1848 году (если не ошибаюсь) император Николай, бывши в Новгороде, посетил Молчальницу, пробыл у нее довольно долго и много разговаривал с нею, причем Вера Александровна исписала несколько листов в ответ на вопросы Государя. Прощаясь с Молчальницей, Государь поцеловал у нее руку и сжег на лампадке исписанные ею листы. При отъезде из монастыря он приказал игуменье иметь всевозможное попечение о старушке, которую удостоил своим посещением.
С того времени Вера Александровна пользовалась всеобщим уважением в монастыре, а прежде того игуменья ездила однажды в Петербург и просила митрополита Серафима избавить ее от Молчальницы, к которой приходит очень много народа, будто бы нарушающего тишину обители. Услышав эту просьбу, престарелый митрополит вскочил с кресел и вскричал: «Ах ты, дура баба! Да нас с тобой скорее выгонят, нежели ее. И поминать об этом не смей». Желая познакомиться с такой необыкновенной личностью, я приехал в Сырков и обратился к игуменье с просьбой допустить меня к Вере Александровне.
Это была уже не та игуменья, которая ездила к митрополиту Серафиму и потом встречала покойного Государя в своем монастыре. «Наша Молчальница сегодня причащалась, – сказала мне игуменья, – едва ли она согласится принять вас. Впрочем, я пошлю узнать». Посланная келейница принесла ответ, что Вера Александровна готова принять, и сама игуменья проводила меня к ней. В большой светлой комнате, с выбеленными по штукатурке стенами, я увидел старушку небольшого роста, в белом платке, покрытую чепцом такого фасона, как носят вдовы в Московском Вдовьем Доме. Она встретила нас почти у двери и поклонилась в землю сначала игуменье, а потом и мне. Игуменья скоро ушла, а я, сидя на скамье, рядом с хозяйкой, стал предлагать ей вопросы, на которые она отвечала письменно.
Видя на стене миниатюрный портрет, я спросил: чей это портрет?
Она: Это портрет моей матери.
Я: А кто она была?
Она: Этого я не скажу.
Я: Это лицо мне знакомо. Я видел точно такой же портрет у моей бабушки, княгини Екатерины Гавриловны Долгоруковой.
Она: А разве княгиня Ек. Гавриловна еще жива? Где она
живет?
Я: Она еще жива, хотя очень стара. Живет в Москве с сыном и дочерью.
Она: Спаси ее Господи!
Я: Позвольте спросить, чьи те четыре имени, которые вписаны в вашем поминальнике за упокой: Павла, Анны, Александра, Марии?
Она: Первые два – моих родителей, а последние – крестного отца и матери.
Я: Где вы жили, пока не поселились здесь?
Она: Я ходила с места на место, больше по монастырям, питаясь в дороге мирским подаянием. За грехи мои и моих покойных родителей я, грешная, наложила на себя обет странничества и молчания. Извините меня: я очень устала и больше беседовать не могу.
Я встал, поцеловал руку у Молчальницы и, выходя из ее кельи, хотел унести с собою лист, на котором она писала ответы, но она взяла его у меня из рук и сожгла на лампадке. Портрет, о котором я ее спрашивал, представлял весьма известную в свое время личность: светлейшую княжну Анну Петровну Лопухину, вышедшую замуж за князя П.Г. Гагарина, брата жены родного дяди моей матери князя Никиты Сергеевича Долгорукова, княгини Екатерины Гавриловны, которая до замужества своего жила несколько времени в доме брата и невестки и много рассказывала мне о внимании Императора Павла I к последней. Почему Сырковская Молчальница знала княгиню, и кто были родители Веры Александровны – Павел и Анна? Предоставляю угадывать читателю; замечу, что после князя П.Г. Гагарина не осталось законных детей.
Спустя два года я был вторично в Новгороде, но уже не застал в живых Веру Александровну».
После публикации «Русским Архивом» этих воспоминаний в журнале «Исторический Вестник» появилась редакционная заметка, резко критикующая ту их часть, где М.В. Толстой касается своей семейной генеалогии и делает недвусмысленные намеки по поводу тайны рождения Веры Молчальницы. Дело объяснялось тем, что в том же 1881 году в двух номерах «Исторического Вестника» была напечатана «Семейная хроника» Николая Сергеевича Маевского – племянника Веры Александровны, в которой он достаточно подробно описывает ее молодость, семейную трагедию и причины «ухода из мира».
В начале своего повествования Маевский рассказывает о своем деде со стороны матери, видном и богатом вельможе и генерале Екатерининских и Павловских времен Александре Дмитриевиче Буткевиче. Родившись в 1759 году и будучи богатым наследником, он вел широкий образ жизни, был крут характером и необуздан в своих желаниях и поступках. Дом его родителей, а затем его самого, находился в Старой петербургской Коломне, на углу набережной Фонтанки и Большой Садовой улицы. Рано женившись, он вскоре овдовел. От этого брака у него осталась дочь Варвара, вышедшая впоследствии замуж за своего дальнего родственника, майора Александра Ивановича Татищева, ставшего много лет спустя военным министром, графом и председателем Верховного суда над декабристами в 1826 году. Около 1784 года Александр Дмитриевич женился вторично на одной из столичных красавиц того времени – Анне Ивановне фон Моллер.
С этого времени и начинается история невеселой жизни Веры Молчальницы. Маевский пишет: «Говорят, на эту парочку молодых весь тогдашний Петербург любовался. У них родилось трое детей: сын Алексей и две дочери – Софья и Вера. Но непродолжительно было их счастье: взаимная ревность погубила его. Что было в действительности – сказать трудно; говорили мне те, которые слышали это от моего деда, будто он застал в спальне жены своей одного из своих товарищей (весьма впоследствии известного генерала, но кого именно, не упомню, а потому и называть не смею) и выкинул его за окошко.

