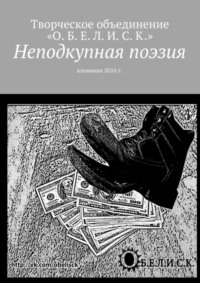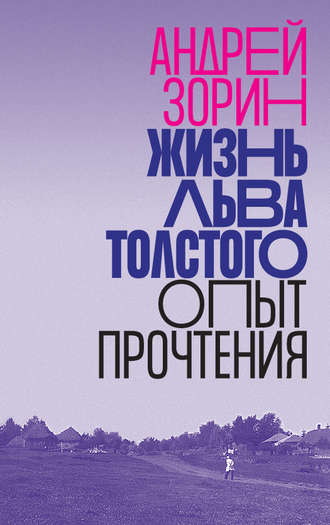
Полная версия
Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения
Как и Толстой, Фет с трудом вписывался в литературную среду. В 1820 году его отец, орловский помещик Афанасий Шеншин, в порыве страсти увез от мужа его мать Шарлотту Фет, беременную будущим поэтом. Обойдя все законы, Шеншин сумел жениться на Шарлотте, но через четырнадцать лет обман раскрылся и ничего не подозревавший мальчик разом оказался лишен дворянского статуса, права на наследование и даже имени. С той поры Фет был одержим идеей вернуть утраченное положение: сначала с помощью военной службы, а потом – брака по расчету и умелого управления имениями. Ради этого он расстался с Марией Лазич, которую всю жизнь считал единственной любовью. Вскоре после их разрыва Мария погибла – был ли это несчастный случай или самоубийство, мы никогда не узнаем. При этом Фет писал стихи, исполненные восхищенной любви к красоте мироздания и острой тоски по иному миру.
Толстой мог оценить это прихотливое сочетание поэтического безумия и воинствующей рациональности как мало кто другой. В то же время в отличие от Фета он никогда не умел и не хотел разделять две эти грани собственной личности и отводить для них различные сферы жизни. Еще в Петербурге он наметил для себя совершенно новую социальную роль.
В марте 1856 года, через несколько дней после заключения мира Александр II сообщил представителям московского дворянства, что отмена крепостного права неизбежна и должна быть осуществлена сверху, прежде чем крестьяне начнут освобождать себя сами. Предстоящая реформа была делом немыслимой сложности. Освободить крестьян с землей значило пойти на беспрецедентное изъятие дворянской собственности, освобождение без земли привело бы к одновременной пролетаризации миллионов крестьян. Император создал секретный комитет для подготовки реформы и одновременно призвал дворян самим освобождать крестьян в собственных имениях.
В мае Толстой, которому в равной мере надоели литераторы, аристократы и девки, уехал в Ясную Поляну заниматься освобождением крепостных. Он составил план действий, который должен был стать образцом для других помещиков. Крестьяне, однако, сомневались в добрых намерениях барина и ожидали настоящего освобождения от царя. Толстой, уверенный, что его проект куда выгоднее для мужиков, чем все, что когда-либо смогут предложить им придворные бюрократы, был оскорблен и растерян. Этот горький опыт взаимного непонимания отразился в его повести «Утро помещика», герой которой, проведя день в тщетных попытках облегчить жизнь крестьян, возвращается домой со «смешанным чувством усталости, стыда, бессилия и раскаяния» (ПСС, IV, 167).
10 января 1857 года Толстой получил паспорт и в первый раз в жизни, если не считать краткой военной службы в Румынии, отправился за границу. Его путь лежал в Париж, культурную столицу Европы и мира, где его уже ждал Тургенев. Пробыв там два месяца, он почувствовал, что Париж ему «опротивел», и отправился в Швейцарию – наслаждаться горными пейзажами, прославленными Руссо.
В Париже Толстой с удовольствием посещал спектакли и концерты, но общее впечатление было отрицательным. Особенно потрясла его публичная казнь – в России подобные зрелища были отменены задолго до его рождения. Парижские нравы также произвели на него отталкивающее впечатление. По словам его двоюродной тетушки Александры Андреевны Толстой, которая жила тогда в Женеве, племянник первым делом сообщил ей, что из тридцати шести пар, проживавших в его пансионе, девятнадцать (то есть чуть больше половины) были неженаты. Точность цифр может вызвать сомнения – вряд ли у Толстого была возможность провести такое исчерпывающее социологическое исследование, но подлинность эмоции вполне очевидна. Эти реакции требуют объяснения. Чем могла так ошеломить офицера, видевшего своими глазами сотни смертей на поле боя, казнь серийного убийцы? Почему постоянный посетитель публичных домов был так скандализован совместным проживанием невенчанных пар?
Оба чувства имели общий источник. Толстой писал Василию Боткину из Парижа:
Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь ‹…› это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. (ПСС, LX, 167)
Именно формальный, процедурный характер убийства делал его столь невыносимым. Точно так же Толстой привык бороться с собственной сексуальностью. Ему случалось поддаваться похоти, причинявшей ему «физические страдания», но он не мог примириться с тем, что выглядело в его глазах торжеством нормализованного, самодовольного порока. Он наблюдал зарождение безличного современного государства, так не похожего на царство произвола и деспотизма, к которому он привык в России, но и то, что он видел, ему тоже не нравилось. Именно в Париже его стихийный анархизм принял оформленный характер. В том же письме Боткину он писал, «что государство есть заговор не только для эксплуатаций, но главное – для развращения граждан»:
…я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность, я чувствую законы искусства, дающие счастие всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. (ПСС, LX, 168–169)
Речь шла о полном отрицании современности. В письме Тургеневу из Швейцарии Толстой советовал ему не пользоваться железной дорогой, которая относится к путешествию в карете так же, как «бардель к любви – так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно» (ПСС, LX, 170). Он с удовольствием бродил по швейцарским Альпам и намеревался продолжить свой гранд-тур в Германии и Италии, однако, просадив в июле в казино Баден-Бадена все деньги, которые у него были, он оказался вынужден прервать путешествие и вернуться в «прелестную Ясную» и «противную Россию» с ее «грубой, лживой жизнью» (ПСС, XLVII, 149). В письме Александре Толстой он пожаловался на «патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (ПСС, LX, 222), царящие на его родине.
В таком положении дел Толстой винил правительство. Долгие столетия оно не обращало внимания на подавляющее большинство населения, а теперь безответственно и цинично сулило ему благодеяния, которых не могло оказать. В 1858 году в одной из своих речей император обвинил помещиков в нежелании проводить реформы. В ответ Толстой написал меморандум, где доказывал, что освобождение крестьян было вековой мечтой дворянства, единственного в стране сословия, которое
посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы, и не смотря на все противодействие Правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее.
В заключение он написал, что «ежели бы к несчастью Правительство довело нас до освобождения снизу, а не сверху, по остроумному выражению Государя Императора, то меньше[е] из зол было бы уничтожен[ие] Правительст[ва]» (ПСС, V, 268–270). С несвойственным ему обычно благоразумием Толстой сжег меморандум, «никому не показывая» его (ПСС, XLVIII, 19).
Толстой искал способы вывести Россию из патриархального варварства, не отдавая ее на растерзание «нечеловечески машинальным» силам современной цивилизации. Он все еще надеялся достигнуть этого, установив отношения взаимопонимания и сотрудничества между образованным дворянством и крестьянством, двумя сословиями российского общества, которые жили непосредственно на земле. Он приступил к освобождению крестьян, но главные свои надежды связывал с подрастающими поколениями.
В одном из двух оставшихся флигелей своего дома Толстой основал крестьянскую школу, которая призвана была стать моделью для развития образования в России. Он чувствовал, что должен ближе познакомиться с лучшими образцами мировой педагогической практики, и поэтому летом 1860 года, оставив школу на попечение помощников, вновь отправился в Европу – изучать проходившие там эксперименты в области начального образования.
Стремительные социальные изменения XIX века резко увеличили спрос на формальное образование. Молодой человек больше не мог рассчитывать на то, что его жизнь будет подобна той, какую вели его родители. Для детей из низших слоев общества это означало, что навыки, полученные в родном доме, окажутся недостаточными или вовсе не пригодными для будущей жизни. По всей Европе создавались школы нового типа и испытывались свежие педагогические идеи. Толстому, решившему посвятить себя педагогике, требовалось познакомиться с этим опытом из первых рук. То, что он увидел, его глубоко разочаровало. Все европейские школы, которые ему довелось посетить, использовали те же самые дисциплинарные практики, которые он успел возненавидеть в России.
Педагогическая система Толстого в равной мере основывалась на идеях, изложенных в «Эмиле» Руссо, и на его собственных представлениях о природе человека и потребностях крестьянских детей. Он отказался от строгой дисциплины, принятой в школах XIX века, и не требовал от учеников заучивать тексты, заниматься каллиграфией или зубрить сложные правила. В его школе вообще не было почти никакой программы, вместо нее он полагался на свободное общение между учителями и учениками, втягивал детей в беседы, совместно с ними занимался физической работой и гимнастикой.
Толстой хотел учить детей только тому, что имело для них практическое или моральное значение. Он читал им книги, рассказывал о событиях русской истории, включая историю наполеоновских войн, а также о собственном богатом и разнообразном опыте. Естественные науки чаще всего изучались на прогулках в непосредственном наблюдении за природой. Крестьянские дети должны были помогать родителям в домашней работе, и им разрешалось уходить из школы по собственному усмотрению. Телесные наказания, являвшиеся в то время общепринятой практикой, были категорически запрещены. Школа также была открыта для девочек.
В 1862 году Толстой опубликовал знаменитую статью «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Его восхищали творческие способности учеников и их готовность и желание узнавать новое. Заголовок статьи как бы предлагал читателю выбрать один из двух вариантов, но в действительности процесс обучения был взаимным. Чтобы создать произведение, которое бы вызвало зависть прославленного писателя своей безыскусной простотой, юным ученикам яснополянской школы нужно было сначала приобрести в общении с ним не только базовую грамотность, но и силу воображения, интеллектуальное любопытство и потребность в самовыражении.
В ходе одной из бесед с детьми Толстой полушутя сказал, что хотел бы отказаться от положения землевладельца и начать работать на земле. Сначала дети с недоверием отнеслись к этому признанию, но потом поверили, что учитель серьезно относится к тому, что говорит. Представив себе такое чудесное превращение барина в мужика, ученики посоветовали Толстому жениться на крестьянке. Они понимали, что подобное социальное преображение требует соответствующего семейного устройства. Толстой с готовностью втянулся в это странное обсуждение. Он «посматривал на всех, улыбался, некоторых переспрашивал и что-то записывал в тетрадку»[10] – и очевидным образом учился у крестьянских детей писать. История, которую они вместе сочиняли, была очень похожа на некоторые его литературные замыслы.
С 1853 года Толстой постоянно возвращался к повести, которая получила затем название «Казаки» и должна была быть посвящена части его жизни, еще не отраженной в художественных произведениях. Сюжет повести типичен для «колониальной» литературы романтической поры: молодой аристократ, имя которого Толстой много раз менял, влюблялся в прекрасную казачку, которую с первого наброска до окончательной редакции звали Марьяной. Толстой изображал эту сильную и откровенно плотскую страсть как проявление стремления героя полностью поменять судьбу и зажить естественной и воинственной жизнью простого казака. Развязка повести автору никак не давалась: в некоторых набросках герой соблазнял и бросал Марьяну, в других – счастливо женился на ней. Толстой также экспериментировал с языком, сталкивая изысканный, психологически нюансированный стиль писем героя друзьям в Петербург с грубой сочностью разговоров казаков.
Параллельно с этой работой Толстой писал идиллический эпос из крестьянской жизни, в центре которого также находилась сильная и сексуально привлекательная крестьянка. Язык этих незаконченных фрагментов, предварительно называвшихся «Идиллия» и «Тихон и Маланья», более однообразен, чем в «Казаках», поскольку Толстому не надо было заботиться о достоверной передаче слов и мыслей раскаявшегося дворянина; но обуревающая автора жажда влиться в чуждую ему народную жизнь заметна по любованию и идеализации, с которыми эта жизнь описана.
За всеми перечисленными набросками угадывается одна из самых сильных по эротическому накалу страстей в жизни Толстого – его связь с замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Аксинья постоянно упоминается в дневниках за 1858–1860 годы все с тем же характерным сочетанием неистового вожделения и почти физиологического отвращения. Куда менее обычным для автора образом все эти записи обнаруживают поглощенность одной и той же женщиной. Через тридцать лет, в совершенно иной период жизни Толстой вернулся к своим воспоминаниям в рассказе с показательным названием «Дьявол». Эта эмоциональная окраска с самого начала присутствовала в его отношениях с Аксиньей, но в то же время дневники отразили и совсем иные чувства:
Видел мельком А[ксинью]. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак. Скотина. Красный загар шеи. ‹…› Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. ‹…› Имел А[ксинью]; но она мне постыла.‹…› О А[ксинье] вспоминаю только с отвращением, о плечах.‹…› А[ксинью] продолжаю видать исключительно ‹…› Ее нигде нет – искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщенья и не могу. (ПСС, XLVIII, 15–25)
В ранней прозе Толстого героини, навеянные романом с Аксиньей, вовсе лишены сатанинского начала. И Маланья, и Марьяна внутренне чисты, несмотря на эротическую притягательность, игривость и жизненную силу. Их соблазнительность морально оправданна, поскольку укоренена в первобытной простоте мира, с которым автор тщетно мечтает слиться.
Толстому не удалось завершить эти опыты. Стремление брать уроки письма у крестьянских детей выдает его глубокую неудовлетворенность ходом своих литературных занятий. Все его новые повести (например, «Альберт» и «Люцерн», где рассказывается о неизбежной нищете и одиночестве, ожидающих настоящего художника, моралистическая притча «Три смерти» или «Семейное счастье», где молодая женщина вспоминает свою влюбленность, ссору и примирение с мужем), казались ему полными провалами и даже «постыдной мерзостью» (ПСС, XLVIII, 21); он вынужден был посылать их в печать только из-за постоянного безденежья. После публикации в 1859 году «Семейного счастья» Толстой прекратил печататься и старался скрывать от своих приятелей литераторов, что вообще что-то пишет.
Друзья, издатели и критики были в отчаянии. И Тургенев, и Фет уговаривали его вернуться в литературу. Некрасов пытался убедить его, что у него есть все, чтобы писать «хорошие – простые, спокойные и ясные повести»[11], не понимая, что именно этого Толстой делать категорически не хотел. Когда критик Александр Дружинин, издававший журнал «Библиотека для чтения», попросил дать ему какое-нибудь новое произведение, Толстой ответил, ему, что
жизнь коротка, и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей ‹…› – совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу – тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-Богу руки не поднимаются. (ПСС, LX, 308)
Он отправился за границу в 1860 году, уверяя всех, что оставил литературу и единственное, что его интересует, – это новые методы преподавания в народных школах. В то же время именно в этой поездке он начал подозревать, что наконец-то нашел нужное ему содержание.
Для этого путешествия у него имелись также личные причины. Его старший брат Николай, с детства бывший для него наставником и примером, медленно умирал от чахотки. Доктора настаивали на перемене климата. Первоначально Толстой приехал к брату на немецкий курорт Бад-Зоден, потом они вместе отправились на юг Франции. Их сопровождала младшая сестра Мария, на чью долю выпали свои горести. Ее семья окончательно распалась, а отношения с Тургеневым ни к чему не привели.
Толстой уже бывал свидетелем того, как умирали люди, и уже терял близких, но на сей раз ему предстояло пережить и то и другое одновременно. Его брат Дмитрий также умер от чахотки в 1856 году, но Лев при этом не присутствовал, а кроме того, он никогда не был с ним так близок, как с Николаем. Через три недели после смерти Николая Толстой писал Фету, что все окружающие поражались тому, как «спокойно, тихо» его брат ушел из жизни, тогда как он сам, неотступно находясь при умирающем, так, что «ни одно чувство не ускользнуло» от него, видел, насколько «страшной, мучительной была его кончина»:
Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что ж это такое?» – Это он ее увидел – это поглощение себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше. (ПСС, LX, 357–358)
Присутствие смерти превращало жизнь в агонию ожидания. Как, может быть, никогда прежде, Толстой ощущал бессмысленность существования. В то же время таинство смерти завораживало его. В письме Сергею, единственному его брату, остававшемуся в живых, он описал свое впечатление от «весёлого и спокойного выражения ‹…› прелестного лица» (ПСС, LX, 354) умершего брата, наконец освободившегося от невыносимых страданий.
Из Франции Толстой отправился в Рим и Флоренцию. Италия входила в предполагавшийся маршрут его путешествия в 1857 году, но он не сумел туда попасть, проигравшись в рулетку. На этот раз его притягивали прежде всего не туристические достопримечательности, а возможность поговорить с Сергеем Волконским, дальним родственником и бывшим декабристом. «Мученики 1825 года», пожертвовавшие положением, состоянием и семьями ради освобождения крестьян, всегда волновали его воображение. В 1895 году Репин попросил Толстого подсказать сюжет для исторической картины. Толстой немедленно посоветовал художнику написать пятерых декабристов, которых ведут на виселицу. После того как Александр II в 1856 году объявил об амнистии для заговорщиков, Толстой начал обдумывать повесть или роман на эту тему.
Трудно представить себе историческое лицо, более соответствующее интересам Толстого, чем Волконский. Богатый аристократ, владевший более чем двумя тысячами душ крепостных, генерал-майор и герой наполеоновских войн, Волконский оставил великосветский и достаточно вольный образ жизни, вступив в масонскую ложу и «Союз благоденствия». Дополнительный романтический ореол его образу придавала поздняя женитьба на Марии Раевской, юной красавице, воспетой Пушкиным. Проведя почти десять лет на каторге, Волконский поселился в отдаленной деревне, где превратился в чрезвычайно успешного фермера. Впоследствии, получив разрешение жить в Иркутске, он всех удивлял тем, что предпочитал компанию купцов и крестьян местному высшему обществу. До конца своих дней он отличался эксцентрическим поведением и пылкой мистической религиозностью.
Пытаясь справиться с депрессией, охватившей его после смерти Николая, Толстой начал писать «Декабристов», роман, посвященный возвращению из Сибири в Москву помилованного заговорщика с женой и двумя детьми. Он хотел противопоставить нравственную твердость старого человека, прошедшего через ужасные лишения, суете либеральных московских салонов с их пустыми разговорами на злобу дня. Его интересовали люди, жизнью доказавшие верность убеждениям. И в психологическом, и в языковом отношении ему было легче перевоплотиться в чудаковатого аристократа, чем в крестьянина или казака. 16 октября 1860 года он записал в дневнике: «одно средство жить – работать» (ПСС, XLVIII, 30). Через месяц или два после этого он встретился с Волконским, а в феврале следующего года в Париже уже читал три главы из романа Тургеневу.
Тургеневу, который с нетерпением ждал возвращения Толстого в литературу, главы понравились. Скорее всего, он не почувствовал, что замысел Толстого направлен прямо против него и его литературного окружения. До полного разрыва между писателями оставалось несколько месяцев. Перед тем как вернуться в Россию, Толстой отправился в Лондон и Брюссель. В Лондоне он общался с Герценом, который считал себя наследником декабристов и опубликовал множество посвященных им материалов в своем журнале «Полярная звезда».
Политические взгляды Толстого и Герцена и их отношение к декабристам были очень различны, но преклонение перед самопожертвованием заговорщиков роднило их между собой. Толстой рассчитывал обсудить с Герценом будущий роман, но по неизвестным причинам не сделал этого и лишь написал о нем в письме из Брюсселя 14 марта 1861 года. В том же письме Толстой спрашивал Герцена, читал ли он манифест об освобождении крестьян, изданный в России 19 февраля. Этот документ стал итогом пятилетних дискуссий и столкновений придворных и бюрократических кланов, партий и групп интересов и представлял собой довольно запутанный компромисс. Герцен в целом был доволен – не столько содержанием документа, сколько долгожданным освобождением крестьян. Толстой же был предсказуемо разочарован. «Я его читал нынче по-русски, – заметил он, – и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим» (ПСС, LX, 145). Тем не менее он отдавал себе отчет, что мир, в котором он жил, изменился раз и навсегда.
По пути домой Толстой получил письмо от своего близкого друга, видного историка и правоведа Бориса Чичерина. Чичерин был едва ли не самым сильным умом среди многочисленных литераторов и интеллектуалов, которые брались наставлять Толстого на путь истинный. На этот раз он упрекнул друга в том, что тот укрылся в школе от великих проблем своего времени, и сообщил, что заканчивает статью об освобождении крестьян. В ответном письме из Дрездена Толстой практически объявил о разрыве отношений:
Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убежденья, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, неудовлетворяющей моей любви к правде ‹…› Тебе странно, как учить грязных ребят. Мне непонятно, как, уважая себя, можно писать о освобождении – статью. – Разве можно сказать в статье одну мильонную долю того, что знаешь и что нужно бы сказать, и хоть что-нибудь новое и хоть одну мысль справедливую, истинно справедливую. А посадить дерево можно и выучить плести лапти наверно можно. (ПСС, LX, 380)
Как бы ни относиться к педагогической теории Толстого, очевидно, что его практическая деятельность была успешной. В стране, где крестьяне были почти поголовно неграмотны, родители его учеников не имели особого выбора. Предчувствуя надвигающиеся перемены, они были готовы отправлять детей в школу. Студенты и выпускники университетов, число которых быстро росло, стремились преподавать в его школах, ученики были в совершенном восторге от странного графа и его уроков.
Толстой вложил в дело свойственные ему расторопность и энергию. Его методы едва ли поддавались тиражированию, но в непосредственном общении с детьми такой страстный, харизматический и преданный делу учитель и непосредственно им подготовленные ассистенты могли добиваться выдающихся результатов.
По возвращении из-за границы Толстой открыл еще двадцать школ в ближайших деревнях, начал издавать педагогический журнал «Ясная поляна» и попытался основать Общество народного образования. Выпустив первый номер «Ясной Поляны», он написал письмо Чернышевскому, попросив поместить обзор журнала в «Современнике», чтобы сделать его идеи доступными читателям гораздо более популярного издания.
Когда-то в начале своей карьеры критика Чернышевский приветствовал появление «Детства» и «Отрочества», отметив тонкость психологического анализа и введя в оборот формулу «диалектика души», которой суждено было стать ходовым обозначением особенностей манеры Толстого. Однако в его отношении к Толстому всегда проглядывало снисходительное высокомерие профессионального интеллектуала, живущего своим пером, к аристократу-дилетанту. Толстой платил ему сходным, хотя и гораздо более эмоциональным отношением. Однажды в письме к Некрасову он назвал Чернышевского «клоповоняющим господином» (ПСС, LX, 74).