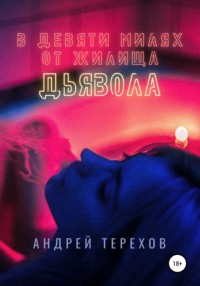Полная версия
Волк в ее голове
Гортанный кашель обрывает его на полуслове. Давясь в приступе бронхита, кассир качает головой и уходит в подсобку. Одинокая калитка обжигает мою руку через бумажный пакет – обжигает так, словно ладонь окунули в кипящее масло.
Повар заканчивает уборку и терпеливо ждёт, пока я выйду. Он запирает за мной дверь на засовчик и поворачивает табличку с часами работы (чёрные цифры на белом) обратной стороной, отчего получается фатальное сочетание текста таблички с текстом неоновой вывески:
КАЛИТКА НАВСЕГДА
ЗАКРЫТО
***
По голубой проталине неба дрейфуют тяжёлые, как атомные крейсеры, облака. Иногда они закрывают солнце, отчего холодает, и я жалею, что надел вместо нормальной куртки балахон с Губкой Бобом. Иногда весеннее солнце прорывается, и верхушки растрёпанного леса за городом загораются рыжим пламенем – будто свечи. Тогда через улицу протягиваются ярко-жёлтые полосы, на стенах набухают смоляные тени. Длится это минут десять. Затем гурьбой наползают новые тучи и свет тускнеет, бледнеют очертания, и на глаза будто надевают синевато-холодный фильтр. Будто цвета и краски стекают с неба и домов, обнажая безликий, бесшовный мир.
«Мир Дианы», – ловлю я себя на мысли и тут же вздрагиваю от далёкого визга, который сумрачным эхом проносится над крышами. Ноги сами несут меня прочь от звука – на первую же улицу, где мелькают прохожие.
В детстве нас пичкали байками о заводском районе: призраки, убийцы и прочая требухня. Окно в дороге. Да-да: рама, стекло, подоконник, а под ними – полотно автострады. Словно дом захлебнулся в асфальте. Бр-р.
И без того немноголюдная округа зловеще пустеет и затихает, будто перед грозой.
Я сворачиваю на вторую слева улицу, как объяснил кассир. В нос ударяет запах шпатлёвки.
ТИПОГРАФИКА. МЫ ПЕЧАТАЕМ БЫСТРО И ДЁШЕВО
ADRAUREUR. ДОСТАВКА ГРУЗОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ
БАР «ЖОПА»
ВНИМАНИЕ, ПРОПАЛА МАМА…
Волосы на загривке будто стягивает невидимая рука, я останавливаюсь.
Оно? Объявление Дианы тихо шелестит на ветру, левее темнеют двустворчатые двери бара, которые детально разрисовали под две половинки женской попы. Промеж них сочится приглушённый тяжеляк в духе девяностых, со стены белым неоном тянется стрелка с подписью: «Иди в задницу». Тут же висит мерзотный плакат «Фекального вопроса» – от концерта месячной давности.
Чувствуя тревожный азарт, я открываю левое полупопие и захожу в тёмный, с кислотно-жёлтой подсветкой зал. По ушам и подошвам ударяют басы. В дальнем конце помещения, в его пульсирующей хмари, танцует одинокая девушка. Из неонового марева поднимается фигура ди-джея, который держит в руке толстый шнур – держит не как провод, а как дубинку, будто чего-то боится.
– Куда! – Тень шагает навстречу. – Куда прём? Предупреждали ваших?
Я чувствую, как мои брови сами собой ползут на лоб: «Ваших?»
Тень изображает нацистское приветствие и следом – жест «убирайся подальше».
– А, – я как можно дружелюбнее улыбаюсь и выбираю на телефоне фото Дианы, – это стрижка. Современная стрижка. А я ищу свою подругу. Вы не?..
– Мне опять зубы с пола собирать? На выход!
Ди-джей ладонью указывает направление.
– Клянусь! Только посмо…
– На выход!
– Вам так сложно на фото посмотреть? – Я тычу сотовым вперёд и с обидой добавляю: – Неужели за две секунды пострадают чьи-то зубы?
Ди-джей замолкает. Размышляет с полминуты, затем берёт мой телефон и подносит ближе к глазам. Свет экрана мягко очерчивает качка-старика лет пятидесяти. Костистый лоб прорезают морщины, опускаются уголки губ.
– Не знаю, – тон ди-джея смягчается. – Ходила тут одна. Доходилась.
Весь мой азарт обрушивается куда-то, ноги слабеют.
– В смысле?
– В смысле район такой… – Ди-джей бросает взгляд на танцующую девушку и пожимает плечами. – То ваши делов наделают, то…
– Да не из скинов я! – Голос у меня дрожит. – Это точно она? Тут, на фото, она моложе.
– Не знаю.
– Как, не знаете? Вы только что…
– Не в мою смену было! Сказали… ну, хорошенькая, сказали. И что-то там про рыжий цвет. То ли куртка у неё рыжая. То ли волосы…
Ди-джей снова оглядывается на танцующую девушку и не заканчивает предложение. Руки её вспархивают, перекрывают неоновый свет и мягко опускаются.
– И чё теперь?.. – Я до боли стискиваю телефон. – Чё с ней? Где она?
– Кто? – Старик пытается отвести взгляд от танцовщицы, но голова его неизменно возвращается обратно, будто дверь на доводчике.
– Рыжая девушка!
– Я откуда знаю? Полиция вроде выезжала. Скорая. – Ди-джей наконец поворачивается и меряет меня неприязненным взглядом. – У них и спрашивай.
Голова бухает, когда я выхожу наружу. Солнце утекает за дома, вытягивает, будто на дыбе, сизые тени. Мне холодно, и почему-то тянет смеяться. Улица напоминает тёмный коридор: слева угрюмые пакгаузы, справа забор железной дороги; фонари ещё не зажглись. Не уверен, что они вообще здесь зажигаются.
«Посмеёмся, когда в ближайшее время найдут их трупы», – тихим, спокойным голосом девушки-коллектора отвечает память.
Да сколько рыжих девиц в городе?! Сотня уж точно наберётся, а найдутся и те, которые красятся, и русые, и блондинки. Блондинки при свете фонаря покажутся рыжими!
Возможно же, что бы ди-джей ошибся?
Конечно.
Он даже не видел ту девушку. Услышал от кого-то и пересказал мне, как запомнил. Старый испорченный телефон – не более.
Старый испорченный телефон.
Телефон.
Я достаю мобильный и набираю Диану.
– Данный номер не обслуживается.
В животе будто скручиваются ледяные змеи, но я держу себя в руках: переключаюсь на приложение «Почтампа» и открываю страницу Дианы. Она всё так же распята на аватарке, всё тот же статус заверяет, что не останется голосов, а останется лишь музыка. И только на стене – новое сообщение.
Олег Петраков
8 апреля 2018 в 22:12
Чё, мамочку потеряла? Поплачься
Я рассматриваю эти строчки непонимающим взглядом, и откуда-то из глубины поднимается тихое, зловещее отчаяние.
Почему в гимназии никто не знает?
«Посмеёмся, когда в ближайшее время найдут их трупы».
Издали доносится свисток локомотива.
Потому что ничего не случилось?
Потому что Диана уехала в другой город? Вслед за мамой? С железнодорожного вокзала?
Или потому что Диана в больнице? Потому что в коме?
«Посмеёмся, когда в ближайшее время найдут их трупы».
Округу ударной волной накрывает грохот поезда.
Я снова набираю Диану.
– Данный номер не обслуживается.
Мыча от бессилия, я оглядываюсь по сторонам. Отблески фар мчащегося товарняка мелькают на окнах и утаскивают за собой по фасадам, по переулкам дробные перестуки колёс. Громкие звуки режут слух, и какой-то звериный, инфернальный ужас – ужас НЕЗНАНИЯ – накрывает мой разум. С неимоверным трудом я заталкиваю его прочь и включаю карту на телефоне.
Больницы?
Полиция?
Взгляд мечется по линиям дорог и зданий, будто Минотавр в лабиринте, и голову стискивает боль. Нарисованные переулки и туннели обступают меня, перебивают дыхание, пока на краю зрения и сознания, во мгле страха и неизвестности, не мелькает красная пиктограмма полицейского.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПУНКТ ОХРАНЫ ПОРЯДКА № 5 РАЙОНА ЗАВОДСКОЙ
ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА
С 16.00 до 20.00
***
Тридцать минут с омертвляющим холодом внутри. Со зверским ветром, гул которого и напор так сильны, что окна домов будто вгибаются в квартиры. С улицами, что вновь оплетают своими прохладными щупальцами.
Голова болит всё страшнее, в затылке пульсирует, и я не запоминаю, как вхожу в участковый пункт. Разом, будто из монтажной склейки, возникает холодное помещение. В соседней комнате звучит певучий женский голос, кто-то плачет, кто-то кашляет. Один на другого металлически блеют телефоны, в эпицентре которых, за стеклом, крутится усатый дежурный.
– Говоришь, рыжая? – уточняет он, когда в звонках образуется пауза.
– Да. Да!
– Если мы об одной гражданке, – усач прижимает трубку ухом к плечу и набирает номер, – так на месте… того.
– Чё?
– Скончалась, чё!
Всё в комнате обесцвечивается. Сердце стучит так, что не хватает воздуха.
– П-посмотрите на фотку? – выдавливаю я наконец и непослушными пальцами вытаскиваю телефон. – Э-это точно она? Она?
Дежурный уже говорит в трубку и останавливает меня жестом руки.
– Я её не видел.
– А есть кто-то?..
– Сейчас нет. Заявление писать…
Он замолкает и с удивлением смотрит через окошко, потому что я открываю рот и не могу ни вдохнуть, ни сказать, только челюсть ходит вверх-вниз ходуном.
– П-прошу! Я не смогу ждать! Я м-могу её увидеть? Это, кажется, м-моя…
В голову приходит, что Диана уже пару лет мне как чужая, и это мешает придумать толковое окончание фразы. Моя – кто? Бывшая сводная сестра? Бывший друг? Как такое называется?
От глупых мыслей горло взрывается лошадиным, неискренним ржанием, которое болью отдаётся в затылке.
– Что смешного? – Дежурный хмурится, принимает очередной звонок. Отвечает и с мягким «дзинь» кладёт трубку на место. – Заявление пишем на твою девушку?
«Твою девушку», – безумно хохочет эхо в моей голове.
– Чё?!
– Заявление?
– В смысле?..
– Я за такие вещи не отвечаю. – Дежурный отходит от стекла, хватает из пачки лист А4. – Да что ты ржёшь-то? Припадочный?
– Нет, вы не поняли! – От хохота выступают слёзы на глазах. – Я могу её опознать! Я…
Горло пережимает тошнота: обрывает и фразу, и приступ нелепого смеха. Полицейский возвращается к телефонам, суёт в окошко бумагу и принимает новый звонок.
Я смотрю на лист с заголовком «ЗАЯВЛЕНИЕ» и ничего не понимаю. Повторяю дежурному, что ищу Диану, свою Диану, а нашли, может быть, вовсе не её, и это надо знать точно. Зачем-то вспоминаю Холм смерти, уроки Вероники Игоревны и с отчаянием сознаю, что дежурный меня не слушает. Он слушает только звонки (визгливое «др-р-р-р») и, словно многорукий телефонный бог, всякий раз угадывает нужный аппарат.
Не зная, что ещё сделать, я пишу номер мобильного поперёк заявления и толкаю бумагу в окошко. Усач роняет её, подбирает, роняет снова. Откладывает.
Какой-то тихий ужас.
– Скажите хотя бы, кто ею занимается? Есть же человек? Один человек!
Дежурный вздыхает и оглядывается на дверь во внутренние помещения. Подтягивает брюки, неохотно выстукивает на одном телефоне номер и тихо, как бы боясь лишних ушей, спрашивает:
– Санёк? Кто рыжую ведёт?
Ответ едва слышно фонит из трубки.
– У нас их много, конечно, – дежурный поднимает взгляд к потолку. – Каждый, сука, вторник находят по дохлой рыжей девке, потому что у нас их в районе девать некуда, хоть на зиму соли.
Меня неприятно поражает циничность фразы, но возмутиться я не успеваю: едва различимо звучит голос из телефона, затем дежурный швыряет трубку в док-станцию и произносит странное слово «мухлади».
– Чё?
– Мухлади. Он пока на обходе.
Зачем мне эта информация? Что с ней делать?
– Н-наверное, подожду.
Стиснув челюсти и не говоря более ни слова, я сползаю на металлические стулья.
Телефоны звонят и звонят. Часы над усачом зловещим маятником отсчитывают время: «Щёлк-тр-р-р-Щёлк-тр-р-р…». Дежурный выходит в соседнее помещение, возвращается, кому-то звонит, равнодушно глядя на меня. Выходит снова. Доставляют двух подростков с кровью на кулаках и лицах, тихого и улыбчивого бомжа. От телефонного крещендо головная боль усиливается до темноты в глазах, до тошноты, и на деревянных ногах я направляюсь к кулеру. Наливаю горячую воду, и пластик стаканчика делается мягким и податливым, обжигает пальцы. Это чувство немного отрезвляет, заземляет меня, и я через боль несу стаканчик к стульям. Вспоминаю о калитке и достаю бумажный пакет, лоснящийся посерёдке от жира. Поначалу вкус пирожка не ощущается – только ноет внутри, словно под грудину всадили рыбью кость, – а потом разум будят сигналы рецепторов: солоноватое тесто, картофельное пюре. Корочка из сметаны и яйца.
Я осознаю, что голоден. Голоден страшно, с утра, и в желудке даже на донышке – там яма, бездна, а калитки уже нет, и в стаканчике пусто.
Меня тянет прочь: из участкового пункта, на улицу, вдоль забора с колючей проволокой. В ближайшем «Магните» я покупаю чай с лимоном и ватрушку. Съедаю там же божественно сладкую ватрушку, выпиваю горячий чай и чувствую, как страх понемногу уходит.
Всё это недоразумение.
Я покупаю ещё одну ватрушку и возвращаюсь в участковый пункт. Съедаю и её, вспоминая калитку, до странного вкусную, как готовят только дома, с любовью. Головная боль понемногу отпускает мой череп. Куда-то в щели между половицами уходит страх.
Точно недоразумение. Диана мертва? Не смешите!
Диана, которая съехала стоя на ногах с Холма смерти – мертва?!
Не поверю. Ха-ха. Да в жизни не поверю!
Заходит полицейский с папкой: переговаривает с дежурным, и тот показывает на меня. От этого взгляда резко сводит живот. Полицейский скрывается во внутренних помещениях. Приходит бледная, как призрак, женщина, кричит на усача, и виски мои снова будто раздавливает обручем.
– Старший участковый уполномоченный, капитан Мухлади. Ты насчёт погибшей?
Я с тревогой осознаю, что надо мной нависает тот полицейский с папкой. Мух-ла-ди? Он выглядит странно знакомым.
– Д-да. Здрасте.
– Тебе исполнилось шестнадцать?
Моё обоняние улавливает тяжёлый дух перегара.
– Естественно!
– Документы.
– Да есть мне шестнадцать! – Я киваю головой в подтверждение.
– Документы!
– Ну дома паспорт! Зачем?..
Лицо Мухлади черствеет.
– Родители далеко? Позвонить можешь?
– Да! То есть нет! Отец в прошмандировке, то есть в командировке, он так называет. Там… – Я чувствую, что сдуваюсь от эмоций, от потока слов и заканчиваю еле слышно: – Там он не отвечает.
– Мать?
Когда у меня спрашивают о ней, в голове возникает одна и та же зимняя ночь. За окном подвывает снег, пурга, я лежу под тяжёлым пуховым одеялом. В темноте мерцают красные цифры будильника: двадцать три – шестнадцать. Приглушённо бормочет телевизор на кухне, и тихо звучит голос мамы, которая говорит по телефону в комнате родителей. Она рано развелась с батей, и больше воспоминаний о ней не осталось. Совсем не осталось, ни одного, так что я часто размышляю, реальна ли эта картинка или выдумана. Может, смешались несколько разрозненных кусков? Было ли одиннадцать вечера? Была ли метель за окном? И голос, который звучит в моей голове, – её ли? Или Вероники Игоревны? Или любой другой батиной девицы?
– Мать?! – нетерпеливо, громко повторяет Мухлади.
– Она в Китае где-то. Мы с ней не…
– Классный руководитель?
Пропала. Ха. Без вести. Ха. Ха.
– С ней некоторые проблемы.
– Хоть кто-то у тебя имеется без проблем?
Не понимая смысла этого допроса, я растерянно смотрю на Мухлади. Он секунды две ждёт ответа, затем отводит взгляд.
– Без представителя не положено.
– Я достаточно взрослый.
– Так предъяви документы! – раздражённо повторяет Мухлади. – Потому что я вижу школяра, которому ни курить нельзя, ни пить, ни…
– В интернете каждый день выкладывают ролики, где человек сам себе отпиливает ногу. Младенцев вешают на крюки, людям отрывают головы, конечности, сиськи-письки и всю эту кровь-кишки-кости размазывают по экрану. Чем ВЫ меня удивите?
К концу фразы в моём голосе проступает столько раздражения, что лицо Мухлади вытягивается. Он оступается и хватается рукой за стену, будто на миг потерял равновесие. Глаза его расширяются. Некоторое время Мухлади приходит в себя от неожиданной качки, затем спрашивает:
– Как твоя пропавшая выглядит?
– Рыжая. Длинные волосы. Дылда.
Я говорю это, и внутри всё замирает. Хоть бы ТА, другая, оказалась светлее оттенком. Хоть бы…
Глаза Мухлади открываются, пугающе-внимательно осматривают меня, и с заметной неохотой он кивает идти следом. Мой страх возвращается – разом, ледяным копьём в живот. Голову ведёт в сторону, горло обжигает горечь рвоты, которая вот-вот выплеснется наружу.
– Когда видел последний раз?
Когда?
– Ну… О-ох… – на миг я теряюсь, затем вспоминаю: – С м-месяц назад, на шестьдесят пятом!
– На мосту?
– Да-да! На мосту. То есть не совсем! Я был на мосту, а она… она…
Передо мной, как мясной холодец, трясётся коридор из одинаковых бежевых дверей, сворачивает, уходит на лестничный пролёт. Чтобы унять головокружение, я замолкаю и смотрю только на ботинки Мухлади, с которых комьями отваливается бурая грязь. До меня вдруг доходит, где я видел участкового: пару часов назад, на пустыре. На камне, с папкой.
– Откуда её знаешь?
– Она с нами жила. Несколько лет. Мы, как бы… дружили.
– Почему думаешь, что пропала?
Почему так думаю? Хороший вопрос. Даже отличный. По… тому?..
– Не отвечает. И дома… дома нет её. Мама пропала. Её мама то есть. И долги. Коллекторы!
– А нечего кредиты набирать. Привыкли жить красиво… – Он замолкает на секунду и затем тихо, зло спрашивает: – Что ж ты месяц ждал? «Друг».
Ощущение, будто по моему лицу бьют тухлой рыбой.
За плечами Мухлади мелькает кабинет с цифрами 105. Лязгает замок, дверь уходит внутрь. Мухлади протягивает руку вбок, щёлкает выключателем, и над нами хлопает-перегорает лампа. Я цепенею от страха, от неожиданности, но мой спутник будто и не замечает аварии.
– Что при себе имеет?
Вспоминается лишь барахло из детства: стёклышки, жвачки, магнит.
– Ты меня слышишь?
– Сигареты! – выпаливаю я. – Она курит вроде… стала курить.
– Ещё.
Мухлади щёлкает туда-сюда выключателем, пока не понимает, что свет не загорится. С чертыханьем садится, запускает компьютер.
– Когда пропала? Месяц назад?
– Не знаю. Мы давно… я давно не…
Меня заглушает рёв машины. Блики от фар лижут потолок кабинета и пропадают.
– Приметы… – Мухлади лезет в металлическую тумбочку и на ощупь, словно по шрифту Брайля, перебирает папки.
– Приметы?
– Родимые пятна, шрамы, веснушки. Травмы.
– Н-ну…
Мысли закручиваются каруселью, но сосредоточиться я не могу: только мычу и смотрю, как компьютер загружается. Его синеватый свет озаряет Мухлади и стену за ним. С детского рисунка смотрит рыжий котик, с иконки – Алексий Стрелецкий, он глядит печально, скорбно, будто знает тяжкую ношу каждого гостя этого кабинета. Между святым и кошаком – карта города, ощетинившаяся флажками и покоробившаяся от перепадов температур.
Мухлади с лязгом задвигает ящик и скармливает голубую флешку компьютеру. Долго и неудачно авторизуется, наконец отыскивает логин и пароль на стикере, приклеенном к монитору, входит в систему. С минуту кликает по папкам, затем поворачивает ко мне экран.
– Узнаёшь?
Плохо соображая, я разглядываю сто рублей, сложенные в виде оригами-журавля. Старый-старый календарик, где четыре кирпичных куба венчают мост-плотину над полноводной рекой. Оранжевый пакет из «Поморских аптек».
Оранжевый и рыжий – это одно и то же?
Может, не девушка рыжая, а только пакет?
– Ну? – торопит Мухлади.
– Нет… В-вроде.
– Нет или вроде?
– Сейчас…
Я судорожно достаю телефон и нахожу снимок Дианы. Мухлади закатывает глаза.
– На хер мне её фото?
– Можно без мата?
– Учить будешь, как говорить?
– Ну я же не матерюсь.
Мухлади нервно дёргает нижней челюстью.
– Лица – нет. Точка!
– То есть? Я…
– Приметы назовёшь? – Он с досадой перебивает меня. – Твоя подруга или моя?
Тухлый комок подкатывает к горлу. Я сдерживаю резкие слова одной-единственной мыслью: наверное, Мухлади пьян. Пахнет же от него перегаром? Вот он и грубит – ибо напился не настолько, чтобы лыка не вязать, но уже осмелел, уже говорит всё прямо, наотмашь, нараспашку. Ибо море по колено и чихать на людей.
– Рыжая, – глухо отвечаю я. – Шрам на животе. От аппендицита. Вроде. Шрам на шее. Её собака в детстве погрызла. Вроде…
– Вроде… Всё у тебя, смотрю, «вроде».
Я стискиваю зубы. Он с досадой поворачивает монитор к себе, минут пять клацает мышкой. Металлически хрюкает принтер, гудит, давит из себя стопку фотографий. Мухлади перебирает их и протягивает мне одну.
Сперва я вижу что-то тестообразное, в оттенках старой овсянки. Лишь пару секунд спустя мозг распознаёт плечи, шею, туловище. Колтуны рыжих волос. Рыжую прошлогоднюю траву в земле. Рыжую поросль между ног погибшей.
Косой шрам на животе.
Мне делается страшно, неловко и мерзко. Я смотрю на обнажённое туловище мёртвой девушки, которой явно вырезали аппендицит, и не понимаю, вижу ли рубец на её шее или вижу грязь, тени и потёки чернил принтера.
Почему она вообще голая?
Почему она голой валяется на земле?
– Н-не знаю.
– Блядь, – тихо ругается Мухлади и выдёргивает снимок из моей руки. – Ещё приметы назовёшь?
До меня доходит, что фото сделали на пустыре. На том пустыре, где я видел труп, где чёрный пакет угрюмо хлопал на ветру.
Г-господи.
– Веснушки? – предлагает Мухлади. – Родинки? Хоть одну вещь ты помнишь?
– Ей два коренных удаляли!
– Я счастлив.
– Это не поможет?
– Это поможет, когда проснётся и опохмелится наш судмедэксперт. Я не биолог и не зоолог, чтобы лазить ей в рот. Внешние приметы!
– А может… может, всё-таки лицо?
– Ты тупой?
Мухлади поворачивается и смотрит глаза в глаза. Я обиженно молчу, пока не соображаю:
– Ну я, пф-ф-ф… на сгибе локтя! Правого. Там, как бы, созвездие.
– Созвездие! – с презрением повторяет Мухлади и снова перебирает фото, и снова отправляет на печать.
Кабинет заполняют ароматы горячего пластика и чернил. Из принтера медленно вылезает сгиб руки, на котором темнеет россыпь пятнышек – не то грязи, не то… родинок? Белые пальцы, очень длинные, тонкие пальцы. Чуть поодаль, обрезанная кадром, чернеет рукоятка пистолета.
Виски мне сдавливает.
Откуда у Дианы пистолет?
Ну откуда?
Грязь. Точно грязь. Капли её похожие на созвездие – ну и что? Машина проехала по луже и обдала девушку фонтаном из лужи. Вот и объяснение.
– Покажите лицо! – не выдерживаю я. – Прошу вас. Чё есть. Н-не могу так.
Мухлади раздражённо морщится. Перебирает снимки, снова лезет в металлическую тумбочку, тут же с грохотом заталкивает ящик обратно.
– Шестнадцать исполнилось?
– Ей? Или…
– Блядь!
– Исполнилось мне шестнадцать. Можете сказать, исполнилось.
– Кому сказать? – Мухлади резко поворачивается. – Кому?! Послушай меня внимательно: у неё вместо лица… раздавленный арбуз. Эта дура в голову себе выстрелила. В голову! – Он лупит себя по виску. – Видел ты такое в своих роликах? Хорошо понимаешь, что это значит? Потому что я не хочу иметь проблем, если ты потом начнёшь ссаться в простыню или бросаться под поезд. Понимаешь? – Мухлади горячится, повышает голос. – Я не хочу, чтобы твои родители, друзья, девки, – на каждое слово он тычет пальцем в сторону дверного проёма, будто там застыл невидимый призрак и не уходит который день, который год, – ко мне ходили и обвиняли, что я тебе психику, сука, сломал, что я тебе жизнь испортил, душу твою юную… искалечил.
Мне делается дурно, жарко, но я нахожу силы фальшиво улыбнуться.
– Нет-нет. Всё будет хорошо. Покажите лицо. П-прошу.
Мухлади с минуту смотрит на меня так, словно вот-вот придушит. С оттяжкой хлопает ладонью по столу и отворачивается. Несколько томительных секунд мы наблюдаем, как по железнодорожной насыпи за пакгаузами беззвучно уносится серо-стальная пуля экспресса. Когда поезд исчезает в вечерней мгле, Мухлади вздыхает и, разыскав на компьютере снимок, отправляет его на печать.
Я зажмуриваюсь.
Есть термин, который называется «ошибка игрока». Обычно люди думают, что будущее зависит от прошлого, что существует вселенский баланс между хорошими и плохими событиями. Что если вы проигрываете в казино раз за разом, то шансы сорвать куш растут.
Пока принтер гудит и тужится, выпихивая из себя очередную фотографию, я подсознательно жду, как после этих долгих, кошмарно долгих и беспокойных часов наступит что-то хорошее. Я жду этого, хотя знаю: ничего во Вселенной не изменилось, и нет никой кармы, и нет баланса. И жопа, если она суждена, накроет с прежней вероятностью.
Принтер замолкает, наступает зловещая тишина.
– Опознавать будешь? Или ещё посидим?
– Замолчите. Прошу вас.
Не слушая ответную ругань Мухлади, я перевожу дыхание и протягиваю руку за распечаткой.
Ещё вдох.
Ещё выдох.
Открываю глаза.
Сон десятый. Она

Мы всегда запаздываем. Всегда чуть позади. Всегда немного в прошлом в нашем осознании настоящего – ведь сначала оно случается, и только потом реагируют глаза и уши: переводят свет и звук в импульсы и отправляют в путешествие по нейронам. Скорость передачи огромна – ни один компьютер не сравнится, – но конечна. Вот и образуется эта пауза, этот промежуток.