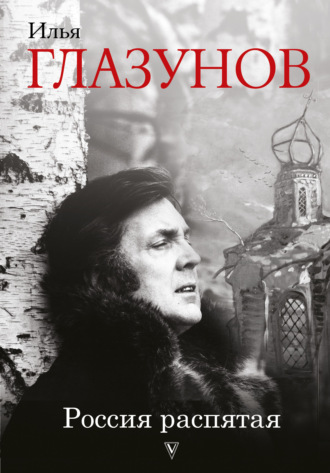
Полная версия
Россия распятая
Маленький петушок был невыносим – гонялся за детьми и взрослыми, стараясь клюнуть как можно больнее, жестоко изранил в драке добродушного соседского петушка, отнимая его добычу. Я полюбил неугомонного драчуна и не разделял общего возмущения его проделками. Однажды, проснувшись в комнате, тонущей в жарком мареве, я с удивлением увидел, что солнце было уже высоко, но никто не предупредил нас о восходе… Все ели суп из маленького петушка и были очень довольны наставшим покоем. Я один не мог есть… Взрослые смеялись и говорили, что это другой петушок, а наш уехал погулять к бабушке в город, в гости и скоро вернется… Но я знал, что никто уже не разбудит нас с такой радостной настойчивостью, когда будет вставать солнце.
С дачи из-под Луги возвращались всегда к осени. После просторных лугов, стрекоз, дрожащих над темными омутами маленьких быстрых речушек, после мирных стреноженных лошадей с добрыми мохнатыми глазами, долго и неподвижно стоящих в вечернем тумане, дымившемся над рекой, после запущенных садиков с яркокрасной смородиной и малиной удивительным миром вставал Ленинград с громадами стройных домов, с бесконечным морем пешеходов, трамваев и машин.
Помню извозчиков на элегантных колясках с поднимающимся верхом. Поражало, что в городе лошади были совсем иные, чем в деревне, будто совсем другие существа – тонконогие, гладкие, с трепещущими ноздрями, они не боялись автомобилей, уверенно и равнодушно смотрели на мир, безоговорочно подчинялись извозчику, радостно и звонко стуча копытами по деревянной мостовой Невского проспекта.
Сколько людей! Как цветов в поле… Какие красивые дома!
Но вот уже перед нами – огромная площадь, и над ней, на высокой колонне, парящей в небесах, – ангел. Это Дворцовая площадь. Зимний дворец, Нева, мосты, ветер… Дух захватывает от удивительной торжественности незабываемой минуты. Волнуешься так, будто весенним вечером, проходя по улице, вдруг услышал из чужого окна дивную музыку. Подобная легкому облаку, дрожащему над морем, она трепещет и тает, а сердце щемит и бьется, будто открылось непознанное.
Хмурая Петроградская сторона… Как, на первый взгляд, она прозаична! Но каждый дом здесь имеет свое неповторимое лицо. Глаза окон смотрят то пристально, то печально, то равнодушно и пусто. Дома точно люди после долгой разлуки: иные изменились, другие выглядят так, будто с ними не расставался, и словно подмигивают оконцами: «Ничего, мы еще поскрипим». Третьи явно забыли тебя – смотрят холодно, как на бедного и нелюбимого родственника.
На берегу Невы за горбатыми мостами, в островке осенних деревьев, плотно сомкнутых, как солдатское каре во время боя, спрятался маленький домик, в котором жил великий Петр. Это был первый музей, виденный мною в жизни. Потемневший от времени портрет энергичного императора в римских латах, пожелтевшие карты, на которых нарисованы диковинные очертания неведомых архипелагов, проливов, морей, островов… Парусные военные корабли, изображенные на старинных гравюрах, – шхуны, баркасы, шлюпы; развевая на ветру флаги, пируют на невских волнах иноземные гости… С разных концов света едут в новую столицу Российской Империи – Санкт-Петербург, выросший со сказочной быстротой на топких финских берегах… До нашего времени сохранились личный компас Петра и отлитая в бронзе могучая рука великого преобразователя России. Сохранились также одежда Петра и огромная лодка, сделанная им самим, – именно в этой лодке царь спас рыбаков, тонувших в сильную бурю на Ладожском озере…
Деревянный домик на берегу Невы, спрятанный, как в панцирь, в каменный защитный футляр другого дома, тихо и задумчиво поблескивает окнами, будто размышляя и удивляясь судьбе огромного города, который начался с него – маленького, но великого в нашей истории домика…
Я не мог не написать о доме Петра Великого, основателя города, где я родился и вырос. Но думаю, что первыми музеями, которые я видел и которые остались в памяти, были Эрмитаж и Русский музей. Навсегда поразили залы Эрмитажа с их торжественностью и великолепием, звучанием образов великих старых мастеров, как звучит музыка Баха, Моцарта, Вивальди и особенно любимого мною Альбинони.
В Русском музее мое детское воображение было пленено образами В. Васнецова «Боян» и «Витязь на распутье» с тревожным закатным небом. В картине «Боян» пронзительно поражал образ самого Бояна, вдохновенно поющего славу героям под бурным, по-былинному могучим небом, вторящим струнам и заставляющим юного княжича ощущать всем сердцем мир будущих битв славных внуков Даждьбога. К этой картине у меня на всю жизнь сохранилось особенное чувство восторга. А тогда, помню, я смотрел вокруг себя и не видел лиц с орлиным взором, как у юного княжича.
Когда я гулял с отцом по спокойным берегам Волхова и видел поросшие буйной травой курганы, мне казалось, что набат огромных небес лучше всех увидел и запечатлел Васнецов. Русь могучая…
Навсегда запомнилось, как шел однажды с мамой по улицам старого Петербурга у Каменноостровского, мимо Ситного рынка, возле которого жила тетя Лиля. Огромные, как горы, как замки, розовые миры, медленные и плавные, высились над городом облака… Это один из самых ярких моментов детства. Моя жизнь словно выложена разноцветными камнями мозаики разных жизней. И только это: облака и лес, синий и вибрирующий в лучах яркого летнего солнца, и ромашки (года четыре тогда мне было) – прошло как лейтмотив жизни, даже тогда, когда мрак и горе переполняли душу.
Были разные годы, люди, события, и все объединяют облака – огромные, кучевые, вечерние. О них нельзя вспоминать без волнения, без подступающих слез. Небо и птицы… Как безжалостна река времен!
А еще в детстве пели стрекозы, извивалась речка Луга. И Волхов, который загадочно цвел, покрываясь зеленым ковром «Это Волхов цветё», – говорили местные жители – новгородцы.
А под землей «ходы» – пещеры, вырытые бог весть кем и когда; «могилы» – курганы – сколько душевного волнения и таинственного очарования в этом! История – жизнь предков – скрыта тайной времени и живет рядом с нами… Бушует ветер, и могуче несет свои воды Волхов…
Недалеко от Плуталовой улицы, дом 26, и Гисляровского проспекта находилось до революции знаменитое кафе, где Блок увидел свою Незнакомку; Серебряный век – когда многие искали Бога, а нашли его в сатане…
Налево – площадь Льва Толстого и улица петербургских миллионеров с могучим зданием архитектора Щуко в духе итальянского Ренессанса. Когда в 1924 году случилось наводнение, тетя Ася, жившая неподалеку – в Ботаническом саду, запомнила, как всплыла деревянная мостовая, устилавшая роскошные улицы для бесшумного проезда извозчиков. Открылись канализационные люки мостовой. Переходя по пояс в воде, пешеходы проваливались в открытые люки. Петербургское наводнение…
* * *Мы переехали недалеко – на угол улицы Матвеевской (названной в память бывшей здесь, а позднее взорванной еще до моего рождения церкви) и Большого проспекта, получившего название проспекта Карла Либкнехта, несмотря на то что он никогда даже не был в Петербурге, как и в других городах России, где столько улиц и проспектов носили его имя, как и имя Розы Люксембург, или, как ее называли в Германии, «Кровавой Розы». Они много потрудились над тем, чтобы превратить Германию в коммунистическую страну Советов под руководством Коминтерна. Как известно, национал-революционеры Европы сорвали планы всемирной революции марксистов-коминтерновцев, а Сталин был вынужден проделать известную чистку среди победителей-ленинцев, входивших в мировой коммунистический интернационал.
Матвеевская, пересекая проспект Либкнехта, становилась улицей Ленина (бывшая Широкая), где жил вождь мирового пролетариата Ульянов (Ленин) с супругой Н. Крупской. Наши родственники Мервольфы остались на Плуталовой улице, а мои родители, бабушка и дядя Кока (Константин Константинович Флуг – известный ученый-китаист) с женой-актрисой Инной Мальвини въехали на первый этаж, в небольшую трехкомнатную квартиру. В комнате прислуги, повесив икону над кроватью, расположилась бабушка, сказав, что это лучше, чем тюрьма. Дядя Кока занял одну комнату у передней, нам досталось две: крохотная – мне, побольше – родителям.
Помню, что дядя читал бегло по-китайски и на его столе были разбросаны старые, написанные иероглифами манускрипты. Я очень любил рассматривать книги – картинки приключений забавных китайских людей – своего рода комиксы XVII–XVIII веков, древние маленькие скульптурки драконов. Над столом – портрет К. К. Флута работы Федотова (ныне он в Третьяковской галерее). Над ним дивная, как говорили, копия головы Ван Дейка, строго смотрящая прямо на зрителя. На стульях, как в артистической уборной, разбросаны причудливые части женского туалета: пеньюары и лифчик – довольно помятый, в форме двух роз. У зеркала – открытые коробки с гримом. Отец брезгливо показал матери на все это, иронически улыбаясь: «Как твой братец это все терпит? Героиня Мопассана, а детей нет!» Посмотрев на меня, мама сказала: «Сережа, перемени, пожалуйста, тему».
Именно в этой квартире им суждено будет умереть страшной, голодной смертью. А жена дяди Коки, Инна Мальвини, исчезнет еще до смерти матери, уехав в 1942 году по Дороге жизни, и навсегда выпадет из моей памяти. А тогда фотография ее с надписью «Лучшей Анне Карениной от почитателя таланта» стояла на дядином письменном столе.
Окна нашей квартиры находились почти над булыжником двора, и я помню пересекающую двор фигуру матери с двумя авоськами и предупреждающий крик управдома: «Товарищ Глазунова, мы у вас воду перекроем – давно пора уплатить по жировкам! Муж в шляпе, а за квартиру не платите вовремя. Одно слово – антилигенция!»
В каждый день рождения я получал столько подарков, сколько мне исполнялось лет. Помню четыре подарка, пять, шесть, семь, восемь… Солдатики, открытки, игрушки, книги… Когда мне подарили ружье и пластмассовый пистолет, восторгу моему не было предела. Помню, бабушка-«царскоселка» Феодосия Федоровна Глазунова – мать отца – подарила книгу Сельмы Лагерлеф, сказки в роскошном издании Девриен и «Басни Крылова» с чудесными иллюстрациями художника по фамилии Жаба.
Особым праздником было Рождество. За окном вьюга, трескучий мороз. Отец приносил маленькую чахлую елочку, большая и не вошла бы под низкий потолок бывшего «наемного» дома. Моя мама, как моя подруга, всегда была рядом со мной. Мы говорили обо всем. Она, как может только мать, самозабвенно любила меня, и никто не вызывал во мне такого чувства радости и полноты бытия. Отец не прощал моих шалостей и ставил меня «носом в угол». Защищая меня, мама клеила со мной картинки, мастерила наряды к елке. Родственники приносили старые игрушки, сохранившиеся еще с дореволюционных времен. Томительные, упоительные часы и минуты ожидания праздника… Кто может забыть эти минуты детства? Наверное, от них ощущение моего детства облекается в образ праздничной елки. Когда собирались все родственники, двоюродные сестры и я с трепетом ждали звонка в дверь – прихода Деда Мороза. Когда мы стали взрослее, то сразу узнавали в нем тетю Инну, в застегнутом на спине пальто отца и вывернутой наизнанку шапке дяди Коки. Почему-то венчающая елку восьмиконечная рождественская звезда тревожила родственников. Они тщательно закрывали окно занавеской… Ведь советская жизнь проходила под красными лучами сатанинской пентаграммы – Звезды пламенеющего разума. Безжалостно карались те, кто видел в празднике Нового года Рождественскую звезду Спасителя мира.
Бабушка читала мне вслух любимую книгу Сенкевича «В пустынях и дебрях», а я рассматривал многочисленные папки с репродукциями классической живописи, заботливо собранными братом бабушки Кокой Прилуцким, художником, которого родственники называли «князем Мышкиным». Через много-много лет, работая над Достоевским и моим любимым романом «Идиот», я смотрел на сохранившуюся старую фотографию двоюродного деда и поражался, до чего он, в самом деле, похож на князя Мышкина, каким я его себе представлял. Репродукции были маленькие – из немецких календарей об искусстве. Но такие четкие, благородные по тону Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, Тициан, Джорджоне, Боттичелли, Караваджо и другие великие имена сопутствовали моему счастливому петербургскому детству.
Мама покупала мне альбомы для рисования и акварельные краски. Засыпая, я смотрел на желтую круглую печь в углу. Краска облупилась во многих местах, и из-под нее сквозила черная старая покраска. Причудливые очертания пятен были похожи на профиль колдуна, иногда на вздыбленные черные облака, иногда на диковинные деревья, как в Ботаническом саду. На столе лежали любимые игрушки, книги. Одно название их для меня как музыка детства: «Царские дети и их наставники», «Рассказ монет», «Живчик», «Под русским знаменем» – о героях русско-турецкой войны.
Чтобы я скорее засыпал, бабушка пела мне старинные колыбельные, которые, наверное, пела ей мать: «Улетел орел домой, солнце скрылось под горой». Особенно я любил песню о бедном ямщике, о русском удалом крестьянине, выросшем на морозе, о дальних походах «солдатушек-бравых-ребятушек».
Звонок звенит, и тройка мчится,За нею пыль по столбовой.На крыльях радости стремитсяВ дом кровных воин молодой.Он с ними юношей расстался,Семнадцать лет в разлуке был.В чужих краях с врагами дрался,Царю, Отечеству служил…Эти песни так же ушли из нашей жизни, как ушел мир доброй, привольной великой России.
В памяти осталось:
Русский я мужик простой,Вырос на морозе.Летом в поле и с сохой,А зимой в извозе.Мне еще чего желать:Тройка есть лихая,Добрая старушка мать,Жёнка молодая.Летом косит или жнет,А когда свободна –И попляшет и споетСколько вам угодно.Что сегодня поют наши бабушки внукам?
Засыпая, я старался представить себе Бородинское сражение, Илью Муромца, борющегося с Соловьем-разбойником, улыбающегося светлейшего князя Александра Васильевича Суворова, костры, горящие у стен Измаила, и лица суворовских солдат – точь-в-точь как на картине В. И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы», которая так поразила мое воображение в Русском музее.
Мое детство было овеяно навсегда ушедшим духом петербургской дворянской семьи.
Уничтожая «социально чуждых», коминтерновские завоеватели не могли и не имели сил сразу уничтожить всех поголовно. Свобода и привольное счастье старой России жило в памяти людей, как и тот великий патриотизм, опираясь на который, Сталин совершил «революцию в революции», когда германские войска молниеносно дошли до Москвы и Ленинграда.
В довоенном Петербурге еще сохранились традиции иметь дома семейные альбомы, куда родственники, друзья и знакомые записывали что-то памятное и доброе. Известно, что в свое время в такие альбомы еще Пушкин, Лермонтов и другие поэты записывали петербургским барышням свои стихи, входящие теперь в собрания сочинений. У моей матери сохранился один из таких семейных альбомов, наполненный рисунками и стихами, написанными по-французски. По сей день помню прекрасный карандашный портрет Брюллова, нарисованный с виртуозным мастерством, а некоторые рисунки приписывались Федотову. А какой удивительный почерк был у русских людей в XIX веке, и как он не похож на размашистый, вкривь и вкось, наш советский почерк! Моя бабушка Елизавета Дмитриевна говорила маме: «Оля, ты должна первая написать в Ильюшин альбом – когда он будет взрослым, а нас уже не будет на свете, ему будет такой радостью прочесть слова матери». Мама открыла старинный альбом в темно-синем переплете с золотым тиснением славянской вязью. Но ничего не написала… «Все мои слова будут так ничтожны в сравнении с моей бескрайней любовью к единственному сыну: верю, он и так всю жизнь будет помнить, что я его люблю вечно». А тетя Ася написала стихи:
Кем бы ни стал ты –Художник с кистью большой-пребольшой,Или пройдешь по знаменамС поднятою гордо главой,Или искусство и славаВ жизни минуют тебя –Мальчиком добрым и милымБудешь всегда для меня!(На помять от твоей старой Атюни. Февраль, 1940 год)Мой отец написал слова, которые меня согревают и по сей день: «Милому сынку. Хотел бы, чтобы ты всегда чувствовал, что есть у тебя верный и беззаветный друг – старый Бяха, для которого твои радости – и его радости, твои несчастья – и его несчастья, друг, к которому ты можешь прийти всегда со всем плохим и со всем хорошим. Stary Bjacha. 19/III 1940».
А моя двоюродная сестра Алла нарисовала какую-то фантастическую бабочку и написала на рисунке: «Этот необычайный мотылек родился на память от Аллы». Она – единственная из всех моих блокадных родственников, которая осталась в живых до наших дней. Сколько времен с тех пор утекло…
Моим маленьким миром была наша квартира на грустной Петроградской стороне, память о которой, как эхо, звучит в моей душе. Это чувство тихой радости, неизбывного счастья и просветления сопутствовали мне и маме – Ляке, так я ее называл. У нее были золотые волосы, серо-зеленые глаза, маленькие мягкие руки. Мама, а потом моя дорогая жена Нина – это две женщины, с которыми я был безмерно счастлив. Забегая далеко вперед, скажу, что как в страшном сне всплывает в памяти лицо моей матери, когда она умирала в ледяном мраке блокадной квартиры. И я полшю, – кажется, это случилось совсем недавно – мокрый асфальт, с которого водопады дождя не смогли смыть едкий мел, которым был очерчен контур тела моей трагически погибшей жены. Боясь смотреть, но невольно заглядывая в пролет арки дома, я видел во дворе на асфальте в сумеречном свете черную кошку, которая неподвижно сидела, словно не находя выхода из очерченного мелом рокового мира смерти. Я всю жизнь чувствовал и знал, что за каждое мгновение счастья нужно платить кровью и страданием. Но когда тьма застилает глаза и уже не хочется жить, воля сопротивления должна поднять человека с колен и заставить продолжить одинокий загадочный путь бытия.
Боже! Сколько незабвенных воспоминаний оставило во мне детство! Русские летние дороги, закаты, бескрайние леса и синие горизонты, распахнутые небеса, грустящая вечерняя рожь, низко летающие ласточки…
Я помню такой Петербург, которого уже никто никогда не увидит! Сердце замирает, и невольно перехватывает горло от этих воспоминаний. Изысканный, непонятный, родной и роковой город! Моя судьба связана с его душой и определена во многом трагизмом и красотой бывшей столицы Российской Империи…
Первые уроки живописи в особняках Витте
Я был единственным ребенком в семье, и, очевидно, поэтому меня считали избалованным матерью. На одном из первых моих рисунков был изображен орел в горах, о чем любила вспоминать моя мать, мечтавшая, чтобы я стал художником. Помню детскую школу искусств «в садике Дзержинского» на берегу Невки, размещенную в бывшей вилле графа Сергея Юльевича Витте. Дети рисовали незатейливые натюрморты, гипсовые орнаменты, композиции по впечатлениям. Мне было лет шесть, но отчетливо помню рисунок на заданную тему о Марине Расковой – женщине-летчице, имя которой не сходило со страниц газет и заполняло программы радиопередач. Как ни стараюсь изобразить женскую фигуру в синем комбинезоне – все мужчина получается. В душе поднялась волна отчаяния. Подошла учительница: «Ильюша, фигура женщины отличается от мужской тем, что у нее бедра шире плеч. Понимаешь?» Она ногтем провела линию по моей незадачливой работе. Я, набрав темно-синей краски на кисть, прибавил в линии бедер, и, о чудо! – передо мной появилась женская фигура. Ушел с ожидавшей меня в многолюдном вестибюле мамой домой. Я был счастлив, глядя на вечерний синий снег, сгибающиеся под его тяжестью черные ветви старого парка с замерзшим прудом, где даже вечером, в тусклом желтом свете фонарей гоняли юные конькобежцы.
Потом мы стали заниматься в другом доме, тоже принадлежавшем до революции председателю Совета Министров, знаменитому масону Витте, «графу полусахалинскому», так много сделавшему для приближения революции в России. Наискосок от него – памятник «Стерегущему» напротив мечети. В 1938 году меня приняли в первую художественную школу на Красноармейской улице, неподалеку от Владимирского собора.
С благодарностью вспоминаю учителя Глеба Ивановича Орловского, влюбленного в высокое искусство. Мама ликовала, когда в журнале «Юный художник» похвалили мою композицию «Вечер» – за наблюдательность и настроение. Помню, что темой акварели был эпизод, когда я с отцом шел домой через Кировский мост. Над нами огромное, тревожное, красное, словно в зареве, небо. Был страшный мороз. Шпиль Петропавловской крепости, как меч, вонзался в пламенеющую высь. Отец шел в своем поношенном пальто с поднятым воротником. Это было во время советско-финской войны, когда бывший флигель-адъютант Государя Николая II Маннергейм сдерживал натиск Красной Армии линией укреплений, носящей его имя.
Глеб Иванович показывал нам репродукции с картин великих художников и учил как можно точнее передавать натуру. Он благожелательно поддерживал мою детскую страсть к истории Отечественной войны 1812 года. У него было такое «петербургское» лицо, строгий костюм, а на ногах серые штиблеты, чем-то похожие на те, что у Пушкина. Глаза добрые, но строгие. Однажды он меня обидел, сказав, что мою композицию «Три казака» «где-то видел». Но, честное слово, я не позаимствовал ее, просто мама начала читать мне «Тараса Бульбу» Гоголя. Меня потрясла история Тараса, Андрия и Остапа. «Батько, слышишь ли ты меня?» – крикнул в смертных мучениях Остап. «Слышу, сынку, слышу!» – раздался в притихшей толпе голос Тараса. Какая глубина и жуткая правда жизни сопутствовали нашему гениальному Гоголю!
Одновременно я пошел в школу, находившуюся напротив нашего дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Накануне этого события мать почему-то проплакала весь вечер, а дядя Кока утешал ее: «Что ты так убиваешься, не на смерть же, не в больницу?». Понижая голос, мать возражала ему: «Они будут обучать его всякой большевистской мерзости. Он такой общительный… Чем это все кончится? Ильюшиного детства жалко». В первый же день нам поручили разучить песню о Ленине. «Подарил апрель из сада нам на память красных роз. А тебе, январь, не рады. Ты от нас его унес». «Но ведь тебе не обязательно петь со всеми, ты можешь только рот открывать», – печально пошутила мама.
* * *Наступила весна. Мы, мальчишки, радостно играли во дворе у старого дерева. Дети жили дружно. Русские, татары, евреи – кого только не вмещал наш старый петербургский дом! Грустная, скорбящая женщина вместе с мужем вывозила в коляске больного полиомиелитом сына. Он ползал по песку, движения его были какими-то изломанными, словно кто-то изнутри заставлял его, открывая рот, сведенный спазмом, выкручивать руки, ноги, закрывать глаза. Родители шептали нам: «Вы не обижайте его, не смейтесь. Это горе для него и для папы и мамы». Но никто и не думал смеяться над ним. Когда он начинал биться на земле в падучей, мы словно не замечали его недуга, старались помочь его матери.
Много лет спустя в Москве возле Арбата, где я живу, спускаясь из мастерской на улицу, я увидел в лучах весеннего яркого солнца среди лотков, столов, где продается все и вся, толпу. Она сбилась плотным кольцом, но что было внутри нее, я поначалу не мог разглядеть. Веселились и радовались все, но чему радуются, увидел, протиснувшись сквозь толпу. И тут сразу вспомнил впечатление давнего детства. На земле сидел, корчась в судорогах, словно мучимый бесом, мальчик лет 15. Движения его были как в падучей – руки и ноги нервно двигались, скрещиваясь, как у робота. Мучительный стыд за людей охватил меня. Над чем же они смеются? Надо скорее помочь бедняге, убрать с асфальта… Но вдруг смотрю, еще один мальчик сел рядом – задергался тоже, а первый, словно робот на механических ногах, встал как ни в чем не бывало. Боже! Оба смеются! Узнавший меня арбатский художник пояснил: «Это, Илья Сергеевич, такой современный танец, называется брейк. Каково?»
Всегда и у всех народов танец был олицетворением гармонии движения, выражением духа в жесте и образе.
Во времена строгих в своей изысканной красоте бальных танцев Бодлер сказал: «Заткните себе уши в танцевальном зале – и вам покажется, что вы попали в сумасшедший дом». Однажды на студенческом вечере я попробовал это сделать и заткнул уши. Поэт был прав – сумасшедший дом! И лишь русский балет, даже если не звучит музыка, прекрасен, как ожившие античные барельефы, или скульптуры, или фрески Рафаэля.
А что же сегодня? Ныне канули в прошлое и шейк, и брейк, и «рок», а молодежные дискотеки захлестнула черная волна электронной поп-музыки, основанной на ритмах шаманского бубна. Она заставляет посетителей, начиная, увы, чуть ли не с 12 лет, впадать в безумие наркотического экстаза. Молодежь фанатеет.
Жар-птица не прилетела…
Я не знаю, как ко мне пришла страсть собирать все, что можно, по истории Отечественной войны 1812 года. Очевидно, это было после посещения галереи 1812 года в Эрмитаже, где прямо в души нам смотрят с портретов глаза героев: Кутузова, Багратиона, Барклая-де-Толли, Тучкова, Раевского, Дохтурова, Кульнева и многих-многих славных защитников России. Какие у них лица, какой великий дух и какая любовь к Отечеству! А какие до революции выходили книги по истории России, о славных героях ее, дающих вечный пример потомкам.






