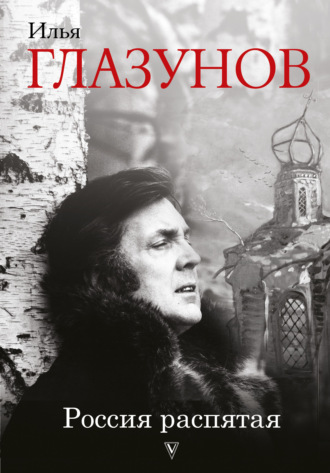
Полная версия
Россия распятая
На следующий день я узнал, что он стал Президентом Российской Федерации.
О великой России говорил мой любимый политический деятель Петр Аркадьевич Столыпин, и потому я с особым чувством в который раз перечитал его речи, бесстрашные и бескомпромиссные в борьбе за великую Россию.
Хочу верить и надеяться, что идеи и действия подлинно великого реформатора Столыпина будут памятны в будущей возрожденной России. П. А. Столыпин утверждал:
«…Только то правительство имеет право на существование, которое обладает зрелой государственной мыслью и твердой государственной волей».
«…Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада».
«…Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свою силу в этих русских национальных началах».
«…В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России – быть сильной».
Добавлю лишь одно: только вождь, отдающий все силы спасению и возрождению своей нации, может повернуть Колесо истории вперед – резко и неожиданно для уже, казалось бы, торжествующих победителей.
* * *Ненавидя всем сердцем коммунизм, я не верил, что пирамида советской империи когда-нибудь рухнет. Мне довелось писать портреты таких столпов партии и государства, как М. А. Суслов, А. Н. Косыгин, А. А. Громыко, Н. А. Щелоков. Меня поразило, когда я увидел на столе у Суслова букетик весенних ландышей. Помню, как у Громыко на даче при мне не один раз приносили к чаю запломбированный торт. Но несмотря на эти портреты, мои выставки, как правило, закрывали Министерство культуры, Союз художников и Отдел культуры ЦК. Мне однажды посоветовали: «Позвони Андропову» (он был тогда председателем КГБ). «А чем он может помочь?» – удивился я. «Всем, если захочет», – ответил мой приятель.
После первого же звонка мне была назначена аудиенция на Лубянке. Я готовился к волевой схватке глазами. Но он, разглядывая меня спокойно сквозь стекла очков, спросил: «Что, опять какую-нибудь «Мистерию» хотите выставить? Плохо, если любовь к Родине перерастает в национализм и антисоветизм». Его красноватое лицо было невозмутимо, и он хотел быть доброжелательным. Стараясь быть тоже невозмутимым, я ответил: «Все мое творчество – это и есть любовь к Родине, а патриотизм, по моему убеждению, не имеет ничего общего с национализмом». «Высокопарно, но справедливо», – сказал Андропов и стал кому-то звонить. Запомнились его слова: «Да, согласен, не надо нам плодить диссидентов и недовольных». И моя выставка в Манеже была открыта.
Я никогда не был членом ни одной партии и, само собой, коммунистической. Быть членом партии означало бы для меня духовную смерть. Я помню, как сам Суслов – идеолог КПСС – поднял на меня глаза: «Если бы вы вступили в партию, многое бы изменилось в вашей жизни. Перед вами открылись бы многие ныне закрытые двери. Вам даст рекомендацию в партию мой помощник Воронцов, а также директор Трехгорной мануфактуры и космонавт, имя которого известно во всем мире».
Его помощник В. В. Воронцов, работавший над очередной книгой афоризмов великих людей, когда я вернулся из Чили, спросил меня:
– Вот мы в ЦК получили от Альенде восхищенное письмо, где он вас называет гением и отмечает вашу удивительную творческую работоспособность, которую вы проявили за месяц, проведенный в Чили. Как вы считаете, сколько времени продлится режим друга СССР, президента Чили?
– Владимир Васильевич, – в свою очередь спросил я, – вы хотите знать правду? Думаю, режим Альенде продержится 34 недели, не больше.
Обычно он вел себя интеллигентно и даже иногда помогал «отрегулировать» мои отношения с Союзом художников и Министерством культуры. Но тут грозный ВВ (как его называли между собой некоторые в аппарате ЦК) неожиданно рявкнул:
– Пошел вон! Режим Альенде вечен, как и идеи марксизма-ленинизма.
Я теперь понимаю, почему вы отказались вступить в партию. Таким людям там нет места.
Прошло три недели с того памятного для меня разговора в шестом подъезде ЦК. Я невольно думал об Альенде, с которым, несмотря на разность взглядов, у нас были сердечные отношения. Никогда не забуду первую кровь на пустынных улицах Сантьяго, лужа которой была к вечеру забросана свежими газетами, и бездомные собаки облизывали эти набухшие от крови листы…
Я работал в своей мастерской, на Калашном, когда вошел мой знакомый журналист.
«Ты все Вивальди слушаешь, а вот твоего друга убили». Он дал мне прочесть газету «Правда», где сообщалось о гибели Альенде и о победе реакционных сил во главе с Пиночетом.
Через несколько дней я не удержался и по совету моего благодетеля С. В. Михалкова позвонил Воронцову. «Владимир Васильевич, вы, конечно, знаете о перевороте в Чили?» – спросил я его как можно спокойнее. Помолчав, он неожиданно ответил: «Хоть вы и длинноволосый беспартийный художник, но иногда даже валаамова ослица говорит правду». Я молчал, как будто ничего не произошло. «Приходите, хочу прочесть вам новую главу из моей книги афоризмов – она посвящена искусству».
Им ничего не оставалось, как выпускать меня за границу, но только по самым высоким приглашениям. Ну как можно было отказать королю Швеции, Индире Ганди, королю Лаоса, премьер-министру Дании, президенту Италии, великому герцогу Люксембургскому, главе ООН Курту Вальдхайму и другим, которые живут в моей памяти и запечатлены на моих портретах. Видя мою неуклонно растущую популярность у нас, в СССР, и на Западе, мои враги продолжали бои с «феноменом русского художника Ильи Глазунова», как называла меня американская пресса. В Советском Союзе меня клеймили и не давали ходу как антисоветчику, воспевающему проклятое прошлое России и ее апостола – Достоевского и церковность, а там бывшие советские граждане «третьей волны» эмиграции, преспокойно покинувшие «эту страну», рассылали повсюду открытое письмо, будто Илья Глазунов – «рука Москвы» и агент КГБ. Я расскажу читателю об этой сложной борьбе многих против одного, когда я неожиданно для моих врагов, экс-советских граждан, подал иск в западногерманский суд, чтобы остановить клевету и травлю, имеющую целью дискредитировать меня как художника и человека. Скажу только, что я выиграл суд, а «мученики режима», большинство из которых ныне, вернувшись домой, стали героями нашей демократии, были посрамлены германским правосудием.
Когда я работал в Италии над портретом папы римского Иоанна-Павла II, мне задал странный вопрос его молодой секретарь – поляк: «А вы знаете, что Михаил Горбачев до того, как стал главой Советского Союза, был представлен влиятельным масонским кругам Англии? Привозил его в Лондон сам Громыко». Для меня это было неожиданно – ведь я знал комсомольца Мишу Горбачева, который был у меня на Кутузовском в начале 60-х во время очередного всесоюзного фестиваля. Запомнилась его широкая улыбка и странное пятно на лбу. А много позже я прочел, что Маргарет Тэтчер после встречи с ним в Лондоне в 1984 году сказала: «С этим человеком можно иметь дело».
Когда началась перестройка, мне тоже довелось иметь с ним дело. Будучи Первым, он радушно принял меня, широко улыбнулся и спросил:
– Узнаешь?
Тут я сразу же сделал ошибку, ответив:
– Ну что ты, конечно!
Он чуть поморщился, но так же ласково продолжил, усаживая меня в кресло:
– Ты теперь славен, богат, осыпан почестями и наградами!
– Михаил Сергеевич, – исправил я свою ошибку, – вот вы сказали о славе. Еще древние говорили: «Все можно купить в этом мире, кроме любви народа». Что же касается богатства, то у меня не было и нет ни одного государственного заказа. А ведь во все времена художники жили заказами. И премий, и наград у меня тоже нет до сих пор ни одной.
В глазах генсека вспыхнули озорные огоньки. Он по-комсомольски взмахнул рукой и сказал:
– Брось заливать, Илюха! Я сам читал, что тебя выдвигали на Государственную премию за иллюстрации к Достоевскому, а не так давно – за цикл «Поле Куликово», который, кстати, мне и Раисе Максимовне очень нравится. Я пожал плечами:
– Выдвинуть – это не значит дать, Михаил Сергеевич.
На его лице появилась лукавая усмешка:
– Прибедняешься? А ведь сейчас краснеть придется!
Он нажал кнопку на одном из многих разноцветных телефонов:
– Петр Нилович! Сколько у Ильи Глазунова премий и орденов? – Мне был слышен тихий голос министра культуры СССР Демичева.
– Как, ни одного ордена?! И премии ни одной?! – Лицо генсека было полно недоумения. – А когда ему полтинник стукнул, вы тоже ему ни хрена не дали? Ну и ну… Вот как вы, оказывается, относитесь к нашему лучшему художнику, известному во всем мире – гордости нации!
Он резко бросил трубку, потом, задумавшись, сказал:
– Илья, мы тебе орден Трудового Красного Знамени дадим. Я тебя заранее поздравляю!
Горбачев тут же, при мне пробежал глазами мою записку и подписал решение о создании нового учебного заведения – Российской академии живописи, ваяния и зодчества. И я ему всегда буду за это благодарен. А вскоре вышел и указ о награждении меня обещанным орденом.
Но с течением времени мне становилось все яснее и яснее, что человек, который провозгласил «новое мышление», на самом деле готовил новую «демократическую» революцию. Провозглашая по договоренности с Западом перестройку, одновременно Горбачев боялся отказаться от фундамента марксизма-ленинизма. И вообще, мне было непонятно, как можно перестраивать дом не с фундамента, а с крыши. В это время я заканчивал монументальное полотно «Великий эксперимент», где выразил свое понимание сути и смысла коммунистической диктатуры. Меня поражало, как быстро вчерашние коммунисты превращались в оголтелых демократов. Черчилль был прав, утверждая, что подонки больших городов Европы и Америки сделали русскую революцию 1917 года. А теперь их внуки, правнуки, «углубив» и переиначив ленинский лозунг: «Грабь награбленное!», совершили новый неслыханный грабеж и воровство – только на этот раз народных сбережений в масштабе советской страны и всей государственной собственности: российских недр, заводов, фабрик, гигантских комбинатов, обрекая «демос» на бесправие, нищету и вырождение. А гениальное мошенничество с ваучерами? Американские советники, сидевшие в Москве, работали день и ночь…
Не существует более понятия русской культуры – она заменена шоу-бизнесом и беспределом так называемого современного антиискусства. Многовековой и тщательно продуманный заговор против России и православной цивилизации, казалось бы, одержал победу. Но чего же так боятся победители? Не того ли, что под пеплом русского погрома таится огонь народного гнева и возмездия? Не рано ли праздновать победу? Они боятся пробуждения и возрождения национального самосознания униженного и обреченного на вымирание русского народа. Этого боялись большевики-коммунисты, и этого же боятся реформаторы-демократы.
«Рынок нашей демократии» – так назвал я свою новую, большую по размерам картину, законченную в канун 2000 года. В ней я хотел выразить кошмарную правду наших 90-х годов: быть или не быть России? Кто ее продает и кто покупает?
В моей памяти встают наглухо заколоченные «неперспективные» деревни, заросшие бурьяном русские поля, которые теперь все наглее захватываются азиатами. В мире существует только одна сверхдержава и клокочущий многомиллионный мусульманский мир.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.




