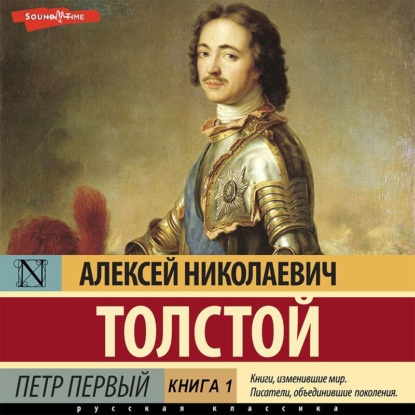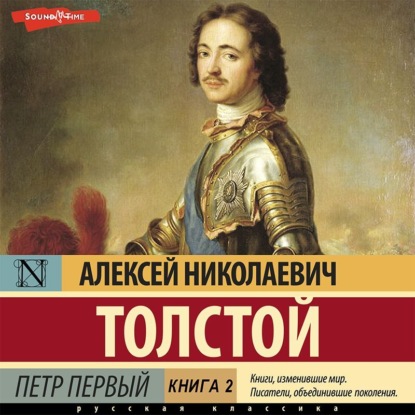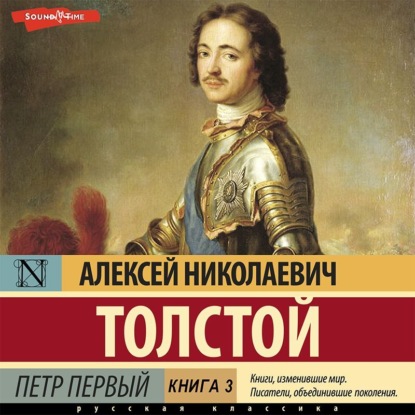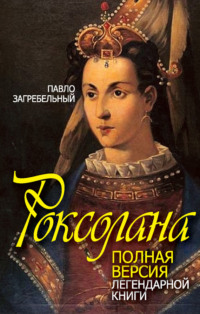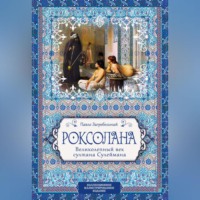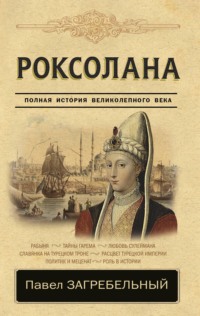Полная версия
Евпраксия
«Недоступные в своих болотах, они не хотят признавать никаких властителей над собою», – писал Гельмгольд. «Глаза у них голубые, лицо красноватое, а волосы длинные» – такими остались в истории.
Ни языка их, ни легенд, ни мудрецов, ни надежд, ни последних слов.
Истреблены только потому, что их земля понравилась ненасытным соседям и еще более ненасытному их богу, – прикрываясь его именем, германские рыцари шли на незащищенные поселенья славянские. Знаем, что были славяне доброжелательны, умны, правдолюбивы, отличались твердостью духа и умеренностью. Германский хронист вынужден был признать, что славяне пусть «еще не просвещены верой, но одарены добрыми естественными свойствами, ибо весьма жалостливы к тем, кто терпит нужду. Золото и серебро они ценят мало и богаты редкостнейшими, не известными нам мехами, запахи коих влили смертоносный яд гордячества промеж наших. Сами же они считают эти меха не дороже всякой скверны и тем самым, я считаю, выносят приговор всем нам, ибо добиваемся куньих мехов, как высочайшего блаженства».
Нордмарка направлена была в самое сердце славянских земель. Ведал ли о том высокоученый князь Всеволод? Иль все равно ему было? Да что там племена, коли он не пожалел даже своей молоденькой дочери…
Набег
Широкозадые кобылы несли сквозь серый дождь без умолку кричащих, еще охваченных сытым воспоминанием о многодневном свадебном пиршестве кнехтов.
Хвалили своего маркграфа, распевали: «Ангелы на небо, пастухи в конюшню, гой нам, гой!» Дождь их не пугал. Настоящего сакса ничто не пугает, ему быть не может никаких преград и помех. «Реки переплывем, горы преодолеем, хитрости переборем, силу переломим, гой нам, гой!»
Когда-то сакс пришел к тюрингу, попросил выделить для себя немного земли. Хмурый тюринг не отличался ни гостеприимством, ни щедростью.
Сказал: бери в подол рубахи – вот и вся тебе тут земля. Сакс набрал землю в подол и начал разбрасывать по крошке, и перепуганный тюринг увидел, что все его горы покрыты саксовой землей.
«Гой нам, гой! А славянских свиней вырубили под корень, так вот нам нужно, гой нам, гой! Найдем их осады в диких борах, на сыром на корне, над реками-озерами, не спросим названья, не дадим опомниться – ни всклика, ни крика, ни плача, ни памяти – падем дождем, бога принесем – своего бога, свое слово, свой меч! Гой!»
Пьяные размахивали взблескивающими мечами, секли струи дождя, гоготали сдуру, маркграф тоже встрял в это шутовство, похвалялся, обещал своим воякам развлеченья, пороскошествовать со славянскими… свинками.
Более всего хотел сам утешиться после позорной неудачи перед непокорной женой, не было в ней, кроме царского титула и богатств, вовсе не было ничего привлекательного для такого знатного мужа, как он!
Напали на селение лютичей так же внезапно, как внезапно возникло оно перед ними, обмытое дождем, разбросанное по-над вытянутым небольшим озером, чистое и тихое, не изготовленное ни к обороне, ни к гибели своей.
Гнали из селения свиней, рогатый скот. И людей, связанных, беспомощных, несчастных. Позади них остались трупы безжалостно убитых мужчин, стариков, детей, растерзанные тела женщин поруганных, а после – тоже убитых. Позади них полыхал огонь. Он не поддался дождю, красными озерами расплескивался над кровлями, и узкое озеро возле селения тоже, казалось, горит, полнится кровавыми отблесками смерти и уничтожения.
Дождь шел и шел. Когда ночью остановились передохнуть, кнехты не смогли найти сушняка на костры. Собранный хворост дымил, стрелял, шипел, давил дымом. Огня не было. Ни обогреться, ни посушиться, а в темноте нападут внезапно, не заметишь.
Не нападал никто. Край был устрашен. Вымер. Железные всадники и кобылы маркграфа вытоптали все живое.
Кнехты чихали от дыма, вытирали слезящиеся глаза, до дури напивались меду. Наглели еще сильней, чем днем. Гой нам, гой! Ангелы на небо, а рыцари в поле!
…Сон свалил всех. Храпели, хрипели, свистели, бранились во сне, угрожали, пускали из себя гадкий дух, и кобылы пускали – все смешалось.
Пленники ждали утра, связанные по рукам и ногам, лежали вповалку вместе со своим скотом, не спали; псы лизали им руки и лица, тихо скулили: ой горе, горе…
На рассвете ударили со всех сторон. Тихо, умело, безжалостно. У земли славянской есть уши и глаза. Услышали, бросили отовсюду воинов, они шли пешком через болота, через трясины, через непроходимые места – напрямик, наперехват, шли по следам тяжелых кобыл на горький запах дыма, на звуки ругани и похвальбы. Копья такие длинные, что в тумане не увидишь наконечника. Боевые секиры на рукоятях в полтора мужицких роста. Луки, закаленные в огне, величиной от пят до бороды. Круглые щиты, обтянутые кожей туров.
Кобылы заржали, предчувствуя опасность. Кнехты беспорядочно барахтались, валились под тяжестью панцирей, утопали в трясине. Тяжелые секиры падали на шлемы, на железо. Людей не видно, секиры падали словно сами по себе. Германским мечом некого достать. Трещат шлемы. Раскалываются черепа.
– А-а-а-а!
Сопротивлявшихся изрубили, маркграфа и диких баронов схватили, выдернули из панцирей, в одних сорочках выгнали на опушку леса, связали ремнями, снятыми с пленников. Погнали насильников назад. Босых, полуголых, под дождем. По следам их кобыл. Гнали долго и упорно. К сожженному селенью, к озеру, которое, видно, хранило еще в своих глубинах отсветы вчерашних ужасов.
Озеро было ключевым. Даже летом вода, как лед. В такой воде водится красивая сильная рыба. Предки умели выбирать место для жительства. Осенью вода еще холоднее. В этом легко убедиться его светлости маркграфу. Генриха загнали в воду по самую шею. Пускай поостынет. Когда он пытался вырываться на берег, воины брали его на рогатины, как медведя, снова загоняли на глубину. Так до вечера. Бароны страдали под дождем на берегу. К ночи всех пропустили. В одних сорочках. Погнали до болота, плюнули вслед.
Возвращайтесь, откуда пришли…
Пройдет немало дней, пока маркграфа внесут в его замок. Не будут бить в котлы, не будут играть на лютнях, не будет маркграф кивать обнаженным мечом. Будет лежать трупом, хоть и живой, и не помогут ни мудрые аббаты с их молитвами, ни привезенные из самой Италии прославленные лекари, не поможет крапивное семя с медом, не поможет и девясил капуанский – скрючит маркграфа, все двести девятнадцать костей, и уже не поднимется маркграф с ложа, не увидит своей совершеннолетней жены, не будет кичиться, что, мол, после того, как исполнилось непокорной шестнадцать лет, ее препроводят, будто охотничью суку, в его замок, – нет, Генрих умрет как раз, когда воспитанница Кведлинбургского монастыря Пракседа достигает competentia annorum.
Летопись. Генеалогия
Замки строили по принуждению, соборы – из набожности. Епископы проклинали тех, кто приходил на стройку из любви к заработкам. Петь псалмы, признавать грехи, укладывать камень, стараясь, чтобы его положение как можно более приближено было к тому, какое он занимал в скале, из которой вырублен, – вот что поощряли святые отцы, вот чему всячески способствовали императоры. Все в мире шатко, ненадежно, тревожно, мысль не укоренялась в сущее, верилось в чудеса и страхи, потому-то камень и должен был стать как бы залогом продолжительности и прочности государства и церкви. Если, скажем, переселялся монастырь в укрепленное стенами здание, хронист восторженно восклицал: «О счастливый час! О благая минута! О день избавления, когда господь решил перенести виноградник свой из Египта, являя слугам своим милосердие свое в месте, стенами огражденном!»
В укрепленных замках сооружались соборы. В Кведлинбурге, излюбленной резиденции германских императоров Саксонской династии, основано было аббатство для воспитания дочерей знатных семей, построено две церкви в честь местных святых – Серватиуса и Виперта. Жена императора Оттона I Адельгейда стала покровительницей аббатства, с тех пор установился обычай, что аббатисой в Кведлинбурге должна быть императорская дочь, многим при рождении давалось имя Адельгейды в надежде на сию высокую честь, ибо Кведлинбургское аббатство было столь же авторитетно, как и монастыри в Монте-Кассино, Сенкт-Галлене, Рейхенау и Клюни. Когда умер в молодом еще возрасте последний из императоров Саксонской династии Оттон III, что прославился своей ученостью, германские князья, напуганные, видно, слишком ученым императором, на своем съезде рейнском провозгласили императором совершенно неграмотного Конрада, который положил начало Франконскому дому.
Капеллан Виппон, описавший жизнь Конрада, даже в неграмотности императора увидел добродетель, сказав: «Воля божия восхотела оставить тебя непросвещенным в науке, дабы ты, получив на то некоторое время спустя небесное благословение, приобрел христианскую империю». Происходило это, когда в Киеве Ярослав начал строительство Софии. И Конрад пробовал строить, а не зная сам, как то делается, положился во всем на духовенство.
Виппон писал: «Хотя он и был неграмотен, но умел рассудительно управлять духовенством, внешне выражая ему знаки любезности и щедрости, а тайно подчиняя его пристойной дисциплине». Конраду весьма понравилась крипта святого Випперта в Кведлинбурге: могучие сводчатые арки, круглые колонны и четырехгранные столбы – все вдавлено в землю, увязло под каким-то страшным грузом, но оттого кажется еще более мощным, крепким, долговечным.
Император не знал, как называются арки, колонны, столбы, навы, зато в руках его была безграничная власть, потому повелел:
– Поставить такой же собор в Шпеере. Только побольше.
На том строительстве объявился странный человек. Пришел искупить грехи. Работал за всех, а в конце дня брал лишь один динар, на хлеб и на воду. А ведь простой переносчик камней зарабатывал семь динаров, каменщик же – двадцать два. Работал этот человек как бешеный, и прозвали его работником святого Петра, и епископ всем советовал брать его за образец трудолюбия и смирения. Но после восьми дней такой дурной исступленной работы кто-то ударил безумца тяжелым молотом в затылок, и тело бросили в Рейн. Рассказывали, что рыбы вынесли тело его на поверхность вод, и зажглись там вдруг три свечи, и появилась над убиенным святая Варвара, покровительница зодчих, шла по водам босая, в синем хитоне.
Людям хотелось чудес не только небесных, но и земных. Рагимбольд из Кельна ломал себе голову над тем, как сделать каменного ангела, чтоб он пальцем всегда указывал на солнце, движущееся по небосводу, или такого орла, который поворачивал бы голову к священнику, читающему с амвона евангелие. Или хоть приспособление для обогреванья рук епископа во время продолжительной мессы.
Но какое все это имеет отношение к Кведлинбургу, в котором Евпраксия должна была провести шесть лет жизни – от двенадцатого до восемнадцатого?
При франконских императорах, как уже говорилось, Кведлинбург перестал быть излюбленным стольным городом, Генрих III может быть упомянут здесь хотя бы по той причине, что его дочь от первой жены Кунегильды – по имени, конечно, Адельгейда – была аббатисой в Кведлинбурге, как раз когда привезли туда молодую маркграфиню Пракседу. Брат Адельгейды (по отцу, а не по матери) император Генрих IV находился тогда в Италии; так издавна повелось, что императоры Священной Римской империи германской нации почти все свои усилия направляли на укрощение непокорных, особливо же в итальянских землях, о чем речь пойдет особо.
В Кведлинбурге все три года непрерывно строили. В 1070 году сгорела старая кирха Серватиуса, осталась от нее только крипта. Над нею соорудили новую церковь, трехнефную, с двумя башнями по главному фасаду и тремя абсидами. Возвели сторожевые башни, обновили палисады, валы, углубили рвы.
В самом аббатстве пестовали сады и монастырские огороды. Был там четырехугольный пруд, по берегам его любила свершать ночные прогулки настоятельница Адельгейда. В скриптории во множестве переписывались дорогие рукописи; для ученых размышлений служил четырехугольный двор, обнесенный каменными аркадами. Аббатство возвышалось над городом, отличалось от замка как отдельная держава мудрости, силы и – еще – привлекательности, ведь все знали, что там, за стенами, – самые красивые и ученые невесты всей Германии, и немало искателей счастья пыталось проникнуть туда, и стоит отметить, что мудрые зодчие позаботились и об этом, сделав ряд окон в аббатстве чуть ли не у самой земли, так что даже пузатый пивохлеб мог легко перевалиться внутрь в келью, коли в ней его ждали. А когда кто-то захотел замуровать окна, бароны подняли шум: «Эти монахи хотят держать наших дочерей и сестер в застенках! Пока бог жив, того не допустим!»
Шестилетие
Осень в Киеве – в полыханье листьев и костров, в щедрых ловах, в радости зреть великолепие всадников, в тяжелом объединении дичью. А тут осень – сплошная грусть. Серая, как свинец, на кровлях монастырских.
Дома князь Всеволод любил монастыри и монахов, старшая сестра Янка, смирившись с грозным своим предназначением, тоже склонилась душой к высокому, божественному, а малолетки Евпраксия и брат ее Ростислав таких склонностей понять не могли, видно, кровь переяславского Ясеня бунтовала в них и оказывалась сильней смиренномудрия княжьего. Ростислав с детских лет выдумывал всякие затеи – однажды в Печерской обители он так напугал монахов, что они потом целый месяц кадили в церкви, читали покаянные и очистительные молитвы, а некоторое время спустя о том загадочном событии было записано даже в Печерский патерик: дескать, в час всенощного бдения многих нерадивых монахов клонило ко сну; один старец увидел, что это бес во образе маленького ляшка в золоченой одежде ходит по церкви, берет из-за пазухи и разбрасывает цветы, прозванные «липками», или «смолками»; к кому цветок прилипнет, тот погружается в сон.
Прежний мир, простой и доверчивый, был теперь для Евпраксии утрачен навсегда. В теперешнем не знали шуток, кроме грубейших, вера не имела ничего общего с доверчивостью. Аббатиса Адельгейда, высокая, вся в черном, старая и молодая одновременно, потому что летами за сорок, а лицом будто девушка, привечала Евпраксию, обходилась как с равной, называла только и не иначе княжной; для правильного обхожденья, сказала Адельгейда русской княжне, нужно овладеть немецким и латинским языками, почитать Вергилия и Горация, познакомиться с древними кодексами и хрониками, главное же – привыкать к умению властвовать над людьми, к тому умению, которое германскими императорами и князьями доведено до высочайшего совершенства.
– А зачем? – спросила Евпраксия и не получила ответа. Лишь увидела горделивую улыбку высокой женщины, которая ежеминутно помнила, что ее брат – император Генрих, могучий властелин, который железной рукой покорил саксонских баронов, выступил против самого папы римского, всесильного Гильдебранда. Да у маленькой Евпраксии все это не вызывало ни ощущения значительности, ни даже обыкновенного любопытства: ну, покорил, ну, выступил против папы – дела среди князей привычные, а вот грубостью – грубостью этих людей она была уязвлена в самое сердце, – грубостью, бесцеремонностью и непристойностью, что испытала на себе в замке мужа, а теперь видела в Кведлинбурге, где ежедневно толклось множество лиц, светских и духовных, людей вроде бы не простых, особ значительных, но все они напоминали ей маркграфа Генриха, напоминали мордастого кнехта Хундертхемде; простые кнехты напоминали разбойников, бароны – тоже, – налетали со своими приспешниками на аббатство, будто на вражью твердыню; епископ, который раз в неделю должен был отправлять службу в церкви святого Серватиуса, был таким завзятым охотником, что и проповеди произносил, не сняв охотничьей одежды, а служки тут же, в церкви, держали наготове псов и соколов. Душа Евпраксии съежилась, стала точно с зернышко; девочка с каждым днем погружалась во все более глубокую печаль, стала бояться грубых голосов, ржанья коней, звуков церковных колоколов, ее пугала Адельгейда, что появлялась всегда неожиданно, в торжественно-черном своем наряде, высокая, гордая, преисполненная надменностью (как же, императорского происхождения!), пресыщенная ученостью и, казалось, самой жизнью. Журина успокаивала «дите» свое, каждый день рассказывала Евпраксии, как живут киевские дружинники, как приспособились они, чтоб не изойти тоской, работать в монастыре дровоколами, показывала смешного человечка, именуемого калефактором, попросту истопник (он один топил все монастырские печи), пробовала напоминать и про чеберяйчиков, но Евпраксия оставалась тихо-равнодушной.
Иногда неожиданно спрашивала Журину:
– Ты слыхала про святую Макрину?
– Бог с тобой, дите мое, – пугливо смотрела на нее женщина. – Где б я могла о ней слышать?
– А правда, будто Макрина уже в двенадцать лет потрясала всех своей красотой? – допытывалась княжна.
– Спроси аббатису, – советовала Журина.
– Это она мне и сказала.
Осени здесь, казалось, не бывает конца. Стояла осень прибытия Евпраксии в Саксонию, осень ее несчастного брака, осень кровавой расправы маркграфа Генриха над лютичами и отплаты ему за набег, осень в Кведлинбурге, наполненном воспоминаниями о былом величии, о пышных императорских приездах в стольный город, о приемах иноземных властителей, о высочайших святостях. Здесь жили воспоминаниями и новыми надеждами на величие. Осень пахла дождями, увядшей листвой, гнилостью болот, затхло-кислыми кожухами, шерстью диких животных, которых здесь убивали во множестве про запас, для императора, потому что император… о, нынешний император мог возвратиться из Италии сюда, нагрянуть для отдыха в аббатство своей сестры Адельгейды.
Иногда Евпраксия пробовала ходить молиться в крипту Виперта, но ее отпугивала мрачность подземелья, камни давили и угнетали; круглые светильники горели с каким-то мрачным исступлением; если вверху свет поражал своей жестокостью, то здесь, внизу, у этих вековых святынь он убивал в тебе последние надежды.
Аббат Бодо, приезжавший в Кведлинбург, чтоб исполнять обязанности переводчика и исповедника Евпраксии, приохочивал ее к книгам греческим и латинским, с красивыми миниатюрами, дорогим, роскошным, – их дарили аббатству в течение целого столетия императоры и епископы.
Но читать не хотелось, целыми днями сидела за пюпитром, рассматривала маленькие цветные изображения богов, ангелов, императоров, рыцарей, все выглядело пышным, праздничным, даже муки Христовы представали в таком роскошестве тонов золотых, червонных, небесно-синих, что казались вовсе не муками, а огромным неземным праздником. Нравились ей миниатюры из псалтыря. К семьдесят шестому псалму прилагалось изображение исхода из Египта, возле семьдесят седьмого нарисованы были чудеса и язвы египетские, а со сто двадцать шестым связывалась картина столпотворения вавилонского, его можно рассматривать чуть не весь день.
Аббат Бодо, строжась, объяснял молодой маркграфине:
– В псалмах – откровение будущего, повествование о прошлом, правила жизни и душевное успокоение, это – посредники наши в миру и всегдашняя помощь в ночных страхах.
Евпраксию смешил царь Давид, изображения которого столь часто встречались в псалтыри. Перепуганный, бородатый царек молился, каялся, скоромным глазом поглядывал на чужую жену и встревоженно – на ненадежного, способного к измене сына. А то вдруг встречала она и вовсе уж странные картины. Христос на горе, которую окружили волы исступленные. Или единорог, преследующий человека. Человек спасается на дереве. Две мыши, черная и белая, то бишь ночь и день, грызут дерево, а дракон ждет, когда же человек упадет. Что бы это могло означать?
Приходил к Евпраксии и киевский исповедник отец Севериан, бородатый и забрызганный грязью, сердитый на аббата Бодо, который, оказывается, чинил всяческие препоны, чтоб не допускать его к княжне, садился в углу большой белой кельи, бубнил:
– Се напоминание о суетности и ничтожности жизни людской. Ибо что есть человек? Человек есть цвет однодневной, тень беглая, и образ божий и тварь.
– А почему при воскрешении мертвые встают из могил в саванах ярких, как будто свадебные одеяния невест? – допытывалась Евпраксия.
Отец Севериан тяжко сопел, переводя дух и гневно потрясая бородой – видно, посылал мысленные проклятья неизвестному художнику, объяснить же толком не мог. Да и как можно объяснить то, о чем спрашивает дитя? Ведомо ведь, что устами младенца глаголет ежели и не истина, то невинность мира сущего. Даже точный ум аббата Бодо оказывался бессильным перед чистотой Евпраксии. Почему царь Навуходоносор изображен в виде медведя? Почему Фамарь, которая искусила свекра, зовут блудницей, а самого свекра блаженным?
Евпраксии отвели в монастыре немало помещений. Была там даже небольшая трапезная, где могли обедать гости, были кельи для чтения, для хранения книг, для припасов, одежды, драгоценностей. Как и некоторые другие богатые молодые женщины в монастыре, Евпраксия не должна была подчиняться суровым монастырским регулам (правилам) – оно и понятно, если даже монахини кведлинбургские (не воспитанницы временные, а невесты христовы) своим грубым черным одеждам придавали такой покрой, чтобы как можно выразительней подчеркнуть женственность своих форм. Освобождением от семейных уз они пользовались для более удобного удовлетворения греховных страстей, о чем Евпраксия поначалу ничего еще не ведала, лишь удивлялась тому, что в аббатстве всегда почему-то толчется больше мужчин, чем пребывает женщин.
Отца Севериана под всякими предлогами к Евпраксии не пускали, аббат Бодо относился к своему киевскому собрату с нескрываемой враждебностью.
Севериан же нарочито подчеркивал свою непохожесть на этих бритых аббатов, пугал всех своей бородищей, рыжими старыми сапогами, до отказа изношенными, выцветшим платьем, тяжеленным золотым крестом, из которого можно было б сделать с десяток вон тех крестиков, что болтаются на впалой груди аббата Бодо. Отец Севериан прокрадывался к княжне в самое неожиданное время, иногда заставал у своей духовной дочери противника, и тогда оба забывали о молоденькой княжне, она себе могла рассматривать миниатюры, выйти в монастырские сады, лечь спать – исповедники схватывались в своих бестолковых спорах о вере, глаз в глаз, лоб в лоб, гремели обвинениями, обменивались проклятиями и руганью, чуть ли не плевали друг на друга, дай им мечи в руки – так неизвестно, не изрубили б они друг друга…
– …Ибо погрязли в блуде! – потрясал огромными кулаками перед маленьким сухим личиком Бодо отец Севериан. – Употребляете опресноки, еже идет от жидовского служения вере и многих ересей начаток и корень. Не соблюдаете поста в первое воскресенье четыредесятницы, не разрешаете священникам женитьб, запрещаете им же творить таинство миропомазания, добавляете к символу веры «И от сына», а се ересь и всех зол верх.
– А вы… а вы продаете дары божьи, ако симониане, – перечислял грехи греческой церкви аббат Бодо, – делаете евнухами в Бизантий пришлых, аки валезиане, и поставляете их не только в простые клирики, но и в епископы.
Подобно нечестивым арианам, перекрещиваете христиан, крещенных во имя святой троицы. Словно донатисты, утверждаете, якобы нет иной церкви, кроме вашей. Словно николаиты, разрешаете брак служителям алтаря. Словно севериане, порицаете закон Моисея. Как духоборы и богоборцы, исключили из символа веры, что дух святой исходит и от сына. Вместе с махитеями говорите, что одушевлено кислое. Сходно назареям, придерживаетесь жидовских очищений, раньше восьми дней не разрешаете крестить младенцев, пусть даже и умрут некрещеными, роженицам не даете причастия, и не допускаете общения с теми, кто стрижет волосы и бороду по обычаю римской церкви!
А отец Севериан мигом перечислял все ереси, которые он находил у латинян: савелианство, жидовство, македонианство, анолинаризм, армянство, монофилитство, монофизитство, арианство, несторианство, иконоборчество.
Евпраксия до той поры даже не представляла себе, что на свете может существовать столько непонятных слов. Ей хотелось смеяться над этими двумя старыми, разум терявшими от взаимных обвинений мужами, что разжигались больше и больше, забывали о святости своего сана и становились похожими то ли на пьяных кнехтов, то ль просто на безумцев.
– Ты забыл о своем долге, – гремел аббат Бодо, обличая Севериана, – и ведомый неутоленной похотью, будучи более глухим, нежели осел, чавкаешь на святую римскую апостольскую церковь. Ты не пресвитер, а заскорузлый во зле, проклятый столетний мул! Тебя можно скорее принять за язычника Эпикура, чем за священника, не в императорском монастыре тебе пребывать, а в амфитеатре возле зверей или же в лупанарии!
– Замолкни, – огрызался отец Севериан, – прикуси, нечестивец, свой собачий язык! Не разумеешь, что речешь и что утверждаешь! Глупый, считаешь себя умней семи мудрецов. Научись же хотя бы молчать, ежели до сих пор не научился говорить, а лишь лаешь, аки шелудивый пес!
Евпраксия хлопала в ладоши в восторге от таких отборных слов, затем звонила в серебряный колокольчик, вызывала Журину и велела дать святым отцам пива.