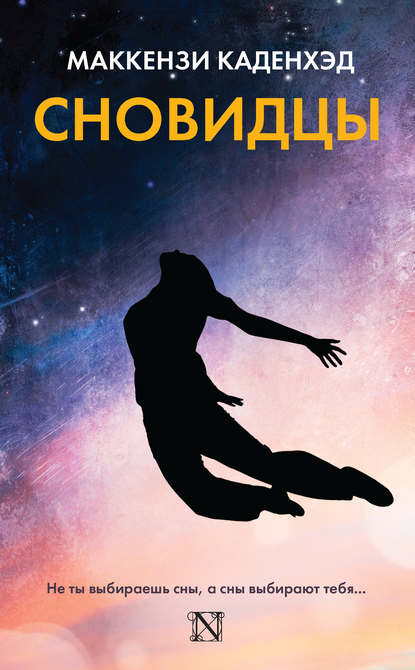Полная версия
Она доведена до отчаяния
На девичнике у Джанет я сказала Китти Коффи, что она воняет, как хорек, и обрадовалась, когда она расплакалась. Я жадно ела, танцевала до пота и так громко хохотала, что миссис Норд пришла и попросила меня:
– Потише, дорогая, ладно? А то тебя слышно по всему дому.
«Заткнись, шлюха», – подумала я, но ограничилась гримасой. Я подначивала девчонок не спать, пока хватит сил. Когда задремала последняя, меня вдруг затрясло – сильно и неподконтрольно. Может, папа ушел, потому что я плохая? Потому что я желала, чтобы он женился на миссис Норд вместо мамы? Потому что я сказала маме, что она некрасивая?
К рассвету глаза щипало от бессонной ночи. Я на цыпочках прошла между бугорками из одеял на полу, представляя, что все подруги стали жертвами какого-нибудь глобального взрыва, а я, единственная неспящая, выжила.
Снаружи медленно серело. Во дворе Нордов чирикали птицы. Я оделась, спустилась в холл, босиком вышла из дома и поехала на велосипеде на Боболинк-драйв.
У бассейна гудел испортившийся фильтр. Вода была серебристой и гладкой. На столбике забора сидел Пети.
Прищелкивая языком, я подобралась поближе, повторяя его кличку. Рука сама поднялась и накрыла его. Попугай слабо клюнул мою ладонь. Я чувствовала под пальцами его хрупкие косточки.
Входную дверь я отперла своим новым блестящим ключом.
Мама в спальне, совершенно голая, стояла перед зеркалом, приподняв груди нежно и с любовью, совсем как мы с Джанет новорожденных котят.
Вот мы и две женщины, подумалось мне.
– Смотри! – крикнула я.
Мать испуганно обернулась на мой голос. Я выпустила Пети, и попугайчик начал летать по комнате, описывая между нами круги.
Глава 3
Я сидела на коричневом клетчатом диване перед телевизором и клеила скотчем челку ко лбу, потому что Джанет сказала – так она, высохнув, не совьется в мелкие колечки. В углу, на баркалаунджере[4], мать занималась своим нервным срывом.
Сгорбившись над подносом на ножках (с таких едят перед телевизором), она безуспешно пыталась сложить пазл на религиозный сюжет. Несмотря на зной, мама сидела в гольфах и стеганом розовом халате. Питалась она исключительно квадратными карамельками «Крафт». Уже две недели я делала телевизор громче, чтобы не слышать тихие ругательства, которые мать еле слышно бормотала себе под нос, и не смотреть на целлофановые обертки, полукругом окружившие баркалаунджер.
Не скажу, что мама легко сдалась: после ухода папы она перекрасила холл, начала заниматься перед телевизором с Джеком ЛаЛеном, кричала и пинала газонокосилку, пока та наконец не заработала. Усилия жить самостоятельно снова привели ее к воскресной мессе и разнообразным подработкам: повар в санатории, кассирша в банке, продавец галантерейного отдела в дисконтном магазине мистера Бига. Когда зимой от мороза лопнула одна из наших труб, мать обзвонила половину «желтых страниц» и нашла-таки водопроводчика, который поднялся с постели и приехал чинить нам трубу.
Прошлой осенью мы ничего не сделали, чтобы подготовить бассейн к зиме. Листья падали на поверхность воды, тонули и гнили, и к весне вода в бассейне стала походить на бурый суп.
Майским утром мать спустилась вниз и нашла Пети мертвым в его клетке.
– За что мне все это? Почему всегда мне? – все еще всхлипывала она, когда я вернулась домой из школы. В тот день она не пошла на работу и на следующий тоже. К концу недели ей позвонил мистер Биг и сказал, что она может не приходить. К этому времени мама уже не вылезала из халата.
Допекли меня ее волосы. В школе я сосала ментоловые пастилки для освежения дыхания и носила с собой маленький флакон дезодоранта «Тасси» на случай, если придется брать в руки пропуск в туалет[5]. Мамины немытые, свалявшиеся волосы встревожили меня настолько, что я приостановила холодную войну с отцом и позвонила по телефонному справочнику в Тенафлай, Нью-Джерси.
Прошел почти год с тех пор, как отец переехал в Тенафлай и открыл цветочный магазин со своей подругой Донной.
– Добрый день, «Эдемский сад», – произнесла Донна. Я говорила с ней всего однажды, в день, когда родители официально развелись, и обозвала ее шлюхой. Двумя главными тайнами моей жизни были: как Донна выглядит, и из-за чего конкретно папа променял нас на нее.
– Могу я поговорить с Тони? – ледяным тоном спросила я. – Это его дочь, мисс Долорес Прайс.
Когда папа взял трубку, я перебила его нервные разговоры ни о чем:
– С мамой проблема. Она странно себя ведет.
Он кашлянул, помолчал и снова кашлянул.
– Насколько странно?
– Ты понял. Очень странно.
Ни мне, ни Донне не улыбалось жить под одной крышей. Также ни Норды, ни мой отец не воодушевились идеей, чтобы мы с Джанет летом пожили у нас, а миссис Норд завозила бы нам еду и чистую одежду. Было решено, что я перееду к бабушке на Пирс-стрит в Истерли, дом в Род-Айленде закроем, пока мама не поправится.
До бабушки Холланд ехать было час. Я всю дорогу сжимала записную книжку с адресами девчонок, у которых вырвала обещания регулярно мне писать. Папа нервно поглядывал на меня в зеркало заднего вида. За нами тащился мебельный фургон, трясясь и покачиваясь из стороны в сторону. В тишине я нетерпеливо ожидала трагедии на дороге, в результате которой меня парализует, и это заставит родителей одуматься. Я представляла, как мы снова заживем втроем на Боболинк-драйв, и папа будет катать меня по двору в инвалидном кресле, по гроб жизни благодарный за мое прощение. А в дверях будет стоять мать с грустной улыбкой и чистыми блестящими волосами, как у девушки на шампуне «Брек».
С бабушкой папа говорил мало – сгрузил мой велосипед, занес чемоданы и картонки в прихожую, поцеловал меня в лоб и уехал.
Мы с бабушкой были осторожно-предупредительны друг с другом.
– Чувствуй себя как дома, Долорес, – нерешительно сказала она, открывая дверь в бывшую комнату моей матери. Там пахло сухостью и пылью. Разбухшие рамы не открывались, подоконник был усыпан дохлыми мухами. Когда я села на жесткий матрас, он затрещал подо мной. Я попыталась представить двенадцатилетнюю маму в этой комнате, но видела только Анну Франк на обложке ее «Дневника».
Всякий раз, поднимаясь или спускаясь по лестнице, я проходила мимо фотографии Эдди, моего покойного дядюшки. Торчащие светлые волосы, остриженные почти под ежик, глаза из-под густых бровей следили за мной со зловещей веселостью. Его улыбка казалась почти издевательской, будто он мог дотянуться из рамки и врезать мне под ребра.
На ужин был мясной хлеб и шпинат под белым соусом. Мы сидели вдвоем и молча ели – тишина нарушалась только случайным звяканьем вилки о тарелку или покашливанием бабушки. Когда она встала налить себе чаю, то сказала, обращаясь к плите:
– Запомни, мать не спятила. Это Тони взял на душу смертный грех, а не Бернис.
Вечером я прикнопила к стене коллаж с доктором Килдером и разложила свою одежду. Бабушка держала в комоде маленькие подушечки-саше, и когда я рывком выдвигала ящики, по комнате плыл запах старух из церкви с напудренными морщинистыми шеями и дребезжащими голосами. В углу нижнего ящика я увидела строчку, написанную красными чернилами прямо на дереве: «Я люблю Бернис Холланд. Искренне твой, Алан Лэдд». Ночью я дважды включала свет и вставала с кровати убедиться, что надпись на месте.
Бабушка включала телевизор на полную громкость и пеняла мне, что я еле слышно бормочу. Она по-прежнему обожала сериал «На пороге ночи». Иногда я брала из холодильника колу и нехотя садилась рядом с ней на диван, нарочно прихлебывая из горлышка.
– Надеюсь, ты не так сидишь в школе, – сказала бабка. – Настоящие леди так не сидят.
Я пролистала телепрограмму и напомнила, что у меня каникулы.
– Я в твоем возрасте ходила в епископальную школу и при выпуске получила медаль за манеры. Люсинда Коут думала, что медаль дадут ей, – она мне так и сказала. Коут походила на большой кусок сыра и очень любила себя. Но нет, медаль дали мне. А моя внучка даже не умеет правильно сидеть на тахте!
– На какой еще тахте? – спросила я, глотая колу.
– На диване, – сердито пояснила бабушка.
Она с ужасом смотрела, как я затыкаю бутылочное горлышко пальцем и трясу, а потом направляю вулкан пены себе в рот.
– Можно, я потише сделаю? – спросила я. – Я не глухая, между прочим.
По вечерам, вымыв посуду, бабушка ковыляла по дому со своим потрепанным молитвенником, перетянутым резинками, а затем усаживалась перед телевизором смотреть свои вестерны – «Бонанцу» и «Сыромятную плеть». Я на кухне надписывала безвкусные открытки с пожеланием здоровья маме и строчила многостраничные жалобные письма Джанет.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Журнал кройки и шитья. –Здесь и далее примеч. пер.
2
Речь идет о массовом убийстве в школе Колумбайн в 1999 году – 37 раненых, из них 13 смертельно (организаторы бойни, два ученика старших классов, застрелились).
3
То есть клятва верности американскому флагу.
4
Мягкое кресло одноименной фирмы.
5
Пропуск в туалет, часто ламинированный, берет ученик, выходя с разрешения учителя в уборную. Если в коридоре его увидит другой учитель, школьнику в качестве объяснения достаточно просто показать пропуск.