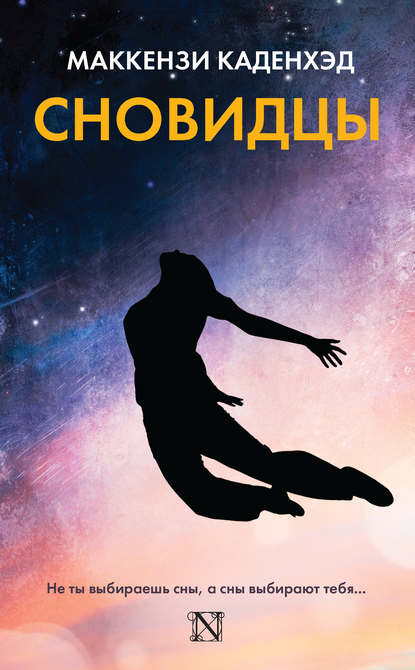Полная версия
Она доведена до отчаяния
Собственной смуглой красотой отец гордился и тщательно берег. Помню, как мне приходилось порой попрыгивать у розовой двери туалета на Картер-авеню, чтобы не описаться, пока папа не торопясь закончит бриться. Когда он выходил, я становилась на табурет среди пара и аромата незакрытого «Олд Спайса» и глядела, как колеблется и сочится каплями мое лицо в зеркальной дверце аптечки. Папа поднимал гантели и штангу в подвале – босиком, в нижней рубашке и желтых плавках. Иногда после этого он расхаживал по кухне, поигрывая перед мамой мускулами, или хватал металлический тостер и целовал свое отражение.
– Это у тебя не тщеславие, а искренняя убежденность! – смеялась мама.
– Что, скажешь, плохой у тебя муж? – И отец начинал бегать по кухне, щелкая кухонным полотенцем по нашим попам. Мы с мамой вопили и протестовали, в восторге от этой игры.
Когда появился телевизор, папа перенес гантели из подвала в гостиную и качался перед любимыми программами. Он предпочитал викторины – «Вопрос на 64 000 долларов», «Тик-так пончик» и «Победитель получает все». Иногда его сиплое дыхание и резкие ритмичные движения нарушались выкрикиваемыми раньше игроков ответами, а если те отвечали неправильно, в их адрес летела ругань.
– Ну, – говорил он маме, – еще один олух облажался. На одного пролетария больше. Нашего полку прибыло.
Папино презрение к олухам казалось как-то связанным с его способностью поднимать тяжести.
Послушать отца, так мы должны были стать богачами. Денежки, по его убеждению, сами плыли к нам в руки и оказались бы нашими, не продай его скудоумные родители тридцать акров земли в Рыбачьей бухте за три тысячи долларов мистеру Вайсу за месяц до того, как утонуть во время Большого урагана 1938 года. Во время Великой депрессии, пришедшейся как раз на совершеннолетие моего отца, Рыбачья бухта была сырым углом, заросшим спартиной и голубикой и застроенным деревянными хибарами с сортиром во дворе. Когда папа поступил работать к миссис Мэсикотт, Рыбачья бухта уже превратилась в благоустроенный район миллионеров, среди которых был и сын мистера Вайса, живший через два особняка от миссис Мэсикотт и зарабатывавший игрой в гольф.
Отец прощал миссис Мэсикотт ее богатство, потому что она не была жадной – «сорила деньгами», по его выражению. Кроме телевизора, в потоке подарков были качели для меня и кухонная утварь для мамы (набор темно-коричневых стаканов для сока и черное ведерко для льда на бронзовых ногах с когтями). Папа обзавелся твидовой спортивной курткой, кожаными перчатками на кроличьем меху и восхитившими меня наручными часами на ремешке «твист-о-бенд», который можно согнуть, но нельзя сломать.
– Давай, жиденок, добавь в свою заначку еще пару тысячонок, – крикнул отец как-то вечером, как всегда, качая мышцы перед телевизором. Показывали «Вопрос за 64000 долларов»; победитель, в круглых очках и с лоснящимися щеками, только что торжествующе вышел из ревлоновской звукоизолированной кабинки.
– Не нужно так говорить, Тони, – не выдержала мать.
Глаза отца метнулись с экрана на жену. Он махал гантелями над головой.
– Чего не нужно говорить?
Мама указала на меня подбородком.
– Я не хочу, чтобы она слышала такие вещи.
– Какие вещи? – повторил отец.
– Ой, все, – бросила мама и вышла из гостиной. Гантели грохнулись об пол – так громко и неожиданно, что сердцу на секунду стало тесно в груди. Папа пошел за мамой в спальню.
На той неделе он уже принес от миссис Мэсикотт толстый альбом для рисования и коробку цветных карандашей «Крейола» в несколько ярусов. Открыв альбом на середине, я нарисовала лицо красавицы, сделав ей длинные загнутые ресницы, алую помаду, крашенные «жженой сиеной» волосы и корону. «Привет, – сказала мне красавица. – Меня зовут Пэгги, мой любимый цвет – фуксия».
– И никогда – никогда! – не смей мне указывать, что я могу и чего не могу говорить в собственном доме! – орал отец в спальне.
Мама плакала и извинялась.
Позже, когда отец грохнул дверью спальни, прошел мимо меня и уехал, мать долго лежала в ванне, когда мне уже давно пора было ложиться спать. Я пол-альбома изрисовала подробностями жизни Пэгги.
Обычно мать сразу меня прогоняла, если я заставала ее голой, но папин гнев сделал ее безучастной и отстраненной. Пепельница на краю ванны была полна окурков «Пэлл-Мэлл». Висевший в ванной густой дым колыхнулся, когда я вошла.
– Смотри, какая тетя, – сказала я. Мне хотелось утешить маму, но она похвалила рисунки, не взглянув.
– Папа злой? – спросила я.
Мать помолчала – я даже подумала, что она не слышала вопроса.
– Иногда, – ответила она наконец.
Ее груди показывались и вновь исчезали под слоем мыльной пены. У меня впервые появилась возможность их рассмотреть. Ее соски походили на шоколадные «Тутси роллс».
– Он злится, когда чувствует себя несчастным.
– А почему он чувствует себя несчастным?
– О… – произнесла мать. – Ты еще слишком маленькая, не поймешь.
Она резко повернулась ко мне и перехватила мой взгляд на ее блестящие, мокрые груди. Со всплеском прикрылась руками и снова стала моей мамой.
– А ну, шуруй отсюда, – сказала она. – Вовсе папа не злой, что ты выдумала?
Арендаторы миссис Мэсикотт платили ренту наличными, отсчитывая двадцатки в протянутую руку моего отца. В удачные субботы, когда кожаная, на молнии, сумка миссис Мэсикотт наполнялась деньгами, папа обращал внимание на меня. Ему нравилось, как я копирую телевизионную рекламу:
Я Чикита Банана, и я пришла сказать —Бананам нужно правильно созревать.Или:
Махни через Аме-ерику на своем «Шевроле»!Америка – самая вели-икая страна!Снова и снова я распевала рекламные ролики, которые папа любил больше всего. Иногда мы играли в «бешеные гонки» на извилистых дорогах, ведущих в Рыбачью бухту. Я сидела на заднем сиденье, изображая миссис Мэсикотт, и командовала отцу прибавить скорость.
– Ладно, мэм, вы готовы, мэм? Поехали! – Я хваталась за персиковую бархатную веревку, натянутую поперек передних сидений, а папа закладывал крутые виражи и пролетал над кочками. – Чувствуешь, какие аристократические амортизаторы, Долорес? Словно в гостиной на диване сидим! – А однажды он сказал: – Эта тачка наша! Я купил козырный «кадди» у старухи!
От мягкой обивки шел запах духов миссис Мэсикотт, и я знала, что отец говорит неправду – это в те-то годы, когда я верила почти всему и думала, что ссоры родителей – это просто такая шумная любовь, как у Люси и Рики Рикардо.
Субботние деловые поездки каждый раз заканчивались на длинной подъездной дорожке в Джефферсон-драйв, где белоснежный особняк миссис Мэсикотт, похожий на свадебный торт, глядел с высокого берега на Лонг-Айленд Саунд. Мы въезжали в темный, прохладный бетонный гараж, где дверцы «Кадиллака» хлопали особенно громко, поднимались по лестнице и открывали дверь, не постучавшись. За дверью была персиковая кухня, от которой я невольно щурилась.
– Веди себя хорошо, – всякий раз предупреждал отец. – Не забывай говорить «спасибо».
В кухне я ждала, пока папа и его начальница заканчивали еженедельные дела – за две комнаты от кухни. Хотя миссис Мэсикотт относилась ко мне с тем же безразличием, что и ее жильцы, она всякий раз заботилась о моем досуге. Стол оказывался уставлен тарелками с домашним печеньем, и лежали толстые книжки с глянцевыми страницами, картинками и бумажными куклами, которые можно было выдавить из картонного трафарета. Компанию во время этих бдений мне составляла Зара, толстая рыже-коричневая кокер-спаниелиха миссис Мэсикотт, сидевшая у моих ног и провожавшая взглядом каждое печенье, которое я съедала.
Миссис Мэсикотт и мой отец смеялись и громко разговаривали, а иногда включали радио (у нас дома приемник был простой пластмассовой коробкой, а у миссис Мэсикотт радиола являлась частью обстановки).
– Ну, скоро мы поедем? – спрашивала я папу, когда он выходил в кухню проверить, как я тут, или взять еще пару «Рейнголдов».
– Через пару минут, – всегда отвечал он независимо от того, сколько на самом деле они собирались просидеть.
Я хотела, чтобы по субботам папа был дома и смеялся с мамой, а не с миссис Мэсикотт, у которой были желтовато-белые волосы и маленькое толстое тельце, как у Зары. Папа обращался к миссис Мэсикотт по имени, Лу-Энн, а мама ее называла просто «она». «Это она», – говорила мама отцу всякий раз, когда телефонный звонок прерывал наш ужин.
Иногда, если встречи затягивались безо всяких причин или отец с миссис Мэсикотт смеялись слишком громко, я подзадоривала себя на скверные проделки, которые затем и совершала. Однажды замалевала лица всех персонажей в дорогой книге сказок, в другой раз намочила губку и швырнула ее в морду Зары. Я регулярно дразнила собаку печеньем, до которого – я специально следила – ей было не достать. Мои поступки – каждый из которых напрашивался на отцовский гнев – шокировали меня и доставляли удовольствие.
Во втором классе у меня были длинные волосы. Утром перед школой мать расчесывала запутанные пряди, собирала в хвост и давала мне пол чайной ложки «Маалокса», чтобы успокоить мой нервный желудок – учительница миссис Нелкин любила поорать. Большую часть учебного года я старалась быть послушной – правильно заполняла пропуски на всех карточках, бесшумно передвигала по парте деревянную рамку с алфавитом и ни с кем не болтала.
– Не порти себе нервы из-за этой старой склочницы, – говорила мама. – Лучше думай о малыше, который вот-вот появится!
Братик или сестричка должен был появиться в феврале 1958 года. Когда я спросила, как младенец попал к маме в живот, родители засмеялись, и папа ответил, что они сделали его сами, своими телами. Я представила, как родители, полностью одетые, сильно-сильно трутся друг о друга, как две палочки, с помощью которых добывают огонь.
Всю осень и зиму я уговаривала куклу пить молоко, поднося к ее рту бутылочку, и старательно терла ее резиновую кожу в теплой воде в раковине. Я хотела девочку, папа – мальчика, а маме было все равно, лишь бы здоровенький.
– А как он вылезет? – спросила я маму уже в конце срока.
– Ой, да неважно, – только и ответила она.
Я представила, как она лежит на больничной кровати, спокойная и улыбающаяся, и ее огромный живот расходится посередине, как ширинка на брюках.
За завтраком в день школьного праздника по случаю Дня святого Валентина мама решила по-другому разложить в ящике столовое серебро и так расстроилась, что поплакала.
Праздник всех влюбленных оказался пятнадцатиминутным разочарованием после уроков. Когда «вечеринка» подошла к концу и мы натягивали сапоги, пальто и вязаные шапки, ко мне подошла миссис Нелкин и велела остаться за партой, несмотря на звонок с урока. Папа позвонил в школу и сказал, что заберет меня. Я сидела в тишине пустого класса в пальто и шапке, со стопкой «валентинок» на коленях. Когда детей в классе нет, можно расслышать легкий скрип, с которым двигаются стрелки настенных часов. Мистер Хорвак, школьный сторож, недовольно бурча, подметал крошки после нашего «праздника», а миссис Нелкин проверяла контрольные, не поднимая глаз.
Забирать меня пришла бабушка Холланд с Род-Айленда, мамина мама. Они с миссис Нелкин так шептались у доски, что у меня возникло подозрение – уж не знают ли они друг дружку. Затем непривычно сладким голоском миссис Нелкин сказала, что я могу идти.
Но домой мы не пошли. Спустившись по длинной школьной лестнице, мы сели в поджидавшее такси и поехали в собор Св. Павла. По дороге бабушка сказала, что маму забрали в большую больницу в Хартфорде из-за возникших «женских проблем», и папа поехал с ней. Мамы не будет минимум две недели, поэтому я пока поживу у бабушки. Ребенка никакого не будет, и ничего тут не поделаешь. На ужин мы ели сушеную говядину под белым соусом.
У святых на церковных витражах был такой же измученный вид, как у женщин из «Королевы на день». Бабушка вынула свои фасолевые четки и забормотала молитвы крестного пути, а я шла за ней, роняя «валентинки» и гулко задевая ногами деревянные скамьи. Свечки, которые мы зажгли, стояли в темно-коричневых чашечках, напоминавших бокалы для сока от миссис Мэсикотт. Держать открытый огонь бабка мне не разрешила, зато доверила опустить монетки в металлический ящик – два десятицентовика за две свечки, звяк-звяк.
Когда папа в ту ночь приехал домой, он прилег на мою кровать и читал мои «валентинки». Говоря о маме, он смотрел в потолок. Каким-то образом, сказал он, к ней в живот вместе с ребенком попал и шнур (я представила бархатный шнурок поперек передних сидений в автомобиле миссис Мэсикотт). На выходе младенец обвил его вокруг шеи и задохнулся. Это был мальчик – Энтони-младший. Отец говорил, и слезы текли по его лицу, как растопленный воск по свечке. Папины слезы меня шокировали: до той минуты я считала, что мужчины от природы не способны плакать, как не способны, например, рожать детей.
Мне не нравилось присутствие бабушки. Она спала на детской кроватке в моей комнате и всякий раз на ужин что-то варила. Это негигиенично, говорила она, что папа пьет воду прямо из горлышка бутылки. Стыдоба, что ее единственная внучка дожила до семи лет, и ее никто не научил молиться. И еще, по словам бабушки, ее достал мой вопрос – когда вернется мама. Она и так делает все возможное, чтобы был порядок.
Сидя перед телевизором, бабушка вязала крючком, хмурясь то на экран, то на свои колени. Ей нравились мыльные оперы. В ее любимом сериале, «На пороге ночи», одна богачка тайно убила мужчину, воткнув ему в шею нож для колки льда, а засудили красавицу из бедной семьи.
– Поглядите на миссис Высокопоставленную и Со Связями, – сказала бабушка, щурясь на настоящую убийцу, сидевшую в зале суда. – Виновна, как грех!
Мой талант подражательницы оказался незаменимым в общении с бабушкой. Я выучила для нее десять заповедей и молитву под названием «Аве, Мария» о людях, скрежещущих зубами в страшном месте под названием Долина Слез. Пораженная моей памятью, бабушка пообещала, что я пойду к первому святому причастию в прелестном белом платье и фате. По утрам она насмехалась над моими страхами, заявляя, что маленьким девочкам рано принимать «Маалокс», и отправляла меня к миссис Нелкин безо всякой защиты.
За день до маминого возвращения из больницы папа разрешил мне не идти в школу. Мы погрузили игрушки, колыбель и ванночку Энтони-младшего в персиковый пикап и отвезли на свалку. По дороге папа сказал, что теперь наша задача – развеселить маму и вообще не говорить про ребенка. Мне это показалось резонным – не мамина же вина, что младенец умер, это сглупил сам Энтони-младший.
Папа швырнул новенькую нежно-зеленую колыбельку на груду старых матрасов и пустых банок из-под краски и, тяжело дыша, вернулся в фургон. Он гнал машину по неровной дороге, и я подскакивала на сиденье, ударяясь о дверь. Перед машиной разлетались чайки, люди выпрямлялись над своим мусором и смотрели на нас. Я оглянулась на непригодившееся приданое Энтони-младшего, быстро удалявшееся от нас, и впервые поняла никчемность его жизни.
Папа ехал в Рыбачью бухту.
– О, нет, только не к ней, – жалобно попросила я. – Сколько мне там сидеть?
Но папа не свернул в конце длинной аллеи на Джефферсон-драйв, а проехал мимо и выбрал другую дорогу. У бесплатного лодочного причала он остановился, и мы вышли на шаткую пристань. Холодный весенний ветер раздувал папин хрустящий нейлоновый плащ.
– Видишь? – спросил папа и показал на серую рябую воду Лонг-Айленд Саунда. – Когда я был в твоем возрасте, я видел кита вон там, за красным бакеном. Кит плыл на юг и заблудился. Застрял на отмели.
– И что было?
– Ничего плохого. Плавал тут пару часов, все на него смотрели, а когда начался прилив, большие лодки вытолкали его в открытое море.
Отец присел на одну из свай с измученным и печальным видом; я знала, что он думает о маме и младенце. Я очень хотела его подбодрить, но распевать рекламные ролики казалось неуместным.
– Пап, слушай, – сказала я. – Я Господь Бог твой, и да не будет у тебя иных богов перед лицом моим. – Отцу явно было тягостно слушать пересказ десяти бабушкиных заповедей, длинных и пустых, как клятва верности[3], которую мы каждый день повторяли за миссис Нелкин. – Не возжелай жены ближнего своего. Не возжелай добра ближнего своего…
Папа дождался, пока я закончу, сказал, что у воды слишком холодно, и велел забираться в чертов фургон.
Мама вернулась домой с опухшими веками и с пустым под широкой блузкой животом. Дом наполнял запах гвоздик, присланных миссис Мэсикотт. Больше всего мама, по ее словам, хотела побыть одна.
Она не вылезала из пижамы все весенние каникулы, рассеянно улыбаясь моим рассказам, кукольным представлениям, пародиям на телерекламу и жалобам.
– Оставь ее пока в покое, – твердила бабушка. – Не надоедай ей.
Уезжать бабушка не собиралась.
На уроке мой сосед по парте, Говард Хэнсин, поднял руку. До того момента я совершенно нейтрально относилась к Говарду и оказалась абсолютно не готова к тому, что он скажет, когда миссис Нелкин дала ему слово:
– А Долорес Прайс жует свой алфавит! Она его каждый день жует.
Весь класс обернулся и уставился на меня.
Я хотела возразить, но посмотрела на парту и вдруг поняла, что это правда: составлявшие слово картонные буквы оказались помятыми, кривыми и некоторые еще темными от моей слюны. Один квадратик с буквой находился у меня за щекой, когда подошла миссис Нелкин. Я была виновна, как грех.
Кричать учительница не стала. Она чуть повысила голос, обращаясь к Говарду и, автоматически, ко всем присутствующим в классе:
– Видимо, Долорес считает это нормальным и остроумным. Видимо, она думает, что учебные пособия растут на деревьях и мне достаточно руку протянуть, чтобы положить ей на парту коробку с новым алфавитом. Но я этого не сделаю, Говард. Пусть до конца года пользуется жеваным, да?
Говард не ответил. Миссис Нелкин прошла по нашему ряду обратно к доске, постукивая каблуками по навощенному деревянному полу, взяла мел и начала писать, мотая обвисшей кожей над локтями. Я не дышала, пока не увидела, что пишет она не обо мне.
Придя домой, я услышала, как отец кричит в спальне, и побежала в безопасную гостиную. С него, черт побери, хватит слезливых мелодрам, он тоже ребенка потерял, Господи помилуй! Хватит – значит хватит! Грохнула входная дверь. Слышно было, как бабушка прошла из кухни в спальню. Мама голосила и голосила, а бабушкины уговоры звучали ровным неразборчивым рокотом.
Работал телевизор. Какой-то дядя в костюме рассказывал о Второй мировой войне. Я осела на диван, не имея сил переключить канал.
Из брюха самолета сыпались бомбы, приветственно махали марширующие солдаты, и тут я испугалась как никогда в жизни, сильнее, чем в тот вечер, когда папа с грохотом бросил гантели на пол: на экране похожие на скелетов люди в каких-то подгузниках тащились по дороге в гору. Провалившиеся глаза глядели прямо на меня, приглашая в бабушкину Долину Слез. Я хотела выключить телевизор, но боялась даже подойти близко, поэтому дождалась, пока начнется реклама, заперлась в ванной и выпила «Маалокс» прямо из пузырька.
В ту ночь я проснулась от собственного крика: приснилось, что миссис Нелкин взяла меня на пикник, а потом спокойно и деловито сообщила, что сандвичи, которые мы едим, сделаны с мясом моего мертвого братишки.
Первым в комнату, спотыкаясь, ворвался папа с разлохмаченными волосами и в одних трусах. За ним прибежала бабушка, а потом мама. Я вдруг ощутила власть и вдохновение и продолжила кричать.
Мама обняла меня и принялась укачивать.
– Будет, будет, не надо, ш-ш-ш. Успокойся. Скажи, что случилось? Скажи нам.
– Это все она, – выдавила я. – Ненавижу ее.
– Кого ненавидишь, детка? – спросил папа. – Кого ты ненавидишь? – Он присел на корточки, чтобы лучше расслышать мой ответ.
Я имела в виду миссис Нелкин, но, пока говорила, передумала и указала мимо отца на бабушку, стоявшую в своем коричневом вельветовом халате, подчеркивающем худобу лица.
– Ее, – заявила я. – Пусть она уедет!
Назавтра была суббота. Утром я смотрела мультики в гостиной, когда из спальни вышла полностью одетая мама и спросила меня, что я буду на завтрак.
– Блины, – ответила я, будто последние месяцы прошли как обычно. – А где папа?
– Повез бабушку на Род-Айленд.
– Она уехала?
Мама кивнула:
– Уехала, когда ты еще спала. Просила за нее с тобой попрощаться.
Новообретенной власти мне хватило, чтобы изгнать бабушку Холланд, но не миссис Мэсикотт. Каждую субботу я отправлялась в ее дом, любезно благодарила за подарки и наблюдала.
Однажды миссис Мэсикотт дала мне ножницы, книгу с бумажной куклой Бетси Макколл и, как всегда, тарелку сахарного печенья. Я съела несколько штук, подразнила Зару еще парочкой и принялась выдавливать Бетси из картонной страницы. Затем вырезала самое красивое платье и прикрепила его на кукле.
– Смотри, Зара! – скомандовала я кокер-спаниелихе.
Я подошла к плите, открыла газ и поднесла куклу Бетси к голубому пламени. Интуиция мне подсказывала, что из всех проказ, которые можно устроить в доме миссис Мэсикотт, это самая худшая, и папа так на меня рассердится, что сорвется на маму. «На помощь! – умоляла Бетси, чье бумажное платье чернело и закручивалось. – Зара, помоги! Спасите меня!»
Я хотела напугать или хотя бы привлечь внимание закормленной собаки, но когда я оглянулась, Зара не сводила глаз с печенья. Она смотрела на него так пристально, что я на секунду забыла о пламени и обожгла большой и указательный пальцы.
Моя история – это история вожделения, сомнительный отчет о страстях и проблемах; она берет начало в тот день 1956 года, когда нам доставили телевизор. Память то и дело отправляет меня в детство: вчера ночью я снова оказалась на кухне миссис Мэсикотт, отвернувшись от пылающей бумажной куклы, чтобы взять у толстой Зары первый урок неудержимой алчности, власти желания.
– Зара, взгляни, я же гибну! – стонала я. – Помоги мне, пожалуйста!
Но собака неотрывно, не мигая, смотрела на печенье с сахарной коркой.
Глава 2
Когда мне исполнилось десять с половиной, мы переехали в Тритоп Эйкрс. Там не было холмов, зато имелись новые тротуары, очень подходящие для катания на велосипеде.
В желтом одноэтажном домике номер двадцать шесть по Боболинк-драйв был гараж и душевая кабина с раздвижными стеклянными дверцами. За окном моей комнаты росла плакучая ива, и ветреными ночами ветви стучали по жалюзи. Этот дом мы не сняли, а купили.
Миссис Мэсикотт владела частью Тритоп Эйкрс, так что нам по знакомству достался двойной участок. К этому времени она приобрела себе новый серебристый «Кадиллак» (старый персиковый отдала моему отцу), набор клюшек для гольфа и членство в загородном клубе. К обязанностям моего отца прибавилась еще одна – играть с миссис Мэсикотт в гольф по выходным.
В свободное от старухи время папа занимался газоном – ровнял, засеивал травой, насвистывая, возил на тачке грязь с одного конца участка на другой. Он очень гордился, что двор у нас вдвое больше, чем у всех соседей. Каждый вечер он работал до темноты, превращаясь сперва в еле различимый силуэт, потом в белую майку, которая сама двигалась в сумерках, и, наконец, просто в свист.
Мама выгладила и повесила шторы и посадила за домом клумбу розовых далий, но цветы радовали ее недолго. В новом доме ее одолела аллергия, она жаловалась и брызгала в нос каким-то спреем по несколько раз на дню. А еще маму трясло при виде малышей, игравших на нашей тихой улочке без присмотра. Ее нервы сразу бы вылечились, говорила она, если бы сдать задом из гаража на нашем чертовом «Кадиллаке» и сбить кого-нибудь из соседских детей.
Джанет Норд, моя новая лучшая подруга, жила в доме десять на Скайларк-плейс, восемь десятых мили от нашего дома, согласно одометру на моем розовом велосипеде. Я познакомилась с Джанет, когда первый раз объезжала район. Увидев девочку примерно моего возраста, крутившую обруч в патио, я решила блеснуть перед ней умением водить велосипед, но не рассчитала высоту бордюра и грохнулась, сгорая от стыда, под еще крутившиеся велосипедные колеса.
– Знаешь что? – сказала подошедшая Джанет, на ходу крутя обруч и не глядя на мои окровавленные коленки. – Одна из моих сиамских кошек скоро родит котят!
Мы с Джанет с удовольствием отмечали наше сходство: обе родились в октябре с разницей в год, обе были единственными детьми в семье, обе левши, у обеих в имени и фамилии по двенадцать букв, каждая предпочитала доктора Килдера Бену Кейзи, любимый десерт – «Уип-энд-чил», пластинка – «Джонни Энджел». Единственным существенным различием было то, что у Джанет уже начались менструации и ей разрешили брить ноги, а я еще ждала этих событий. В ту весну и лето мы с Джанет смотрели мыльные оперы, менялись виниловыми пластинками и планировали совместную жизнь: после школы снимем пополам квартиру в Нью-Йорке и станем либо секретаршами, либо танцовщицами «Рокетс». Потом Джанет выйдет замуж за ветеринара по имени Росс, а я – за актера по имени Скотт или Тодд. Наши дети, по пятеро у каждой, станут лучшими друзьями. Мы будем жить в собственных домах по соседству и купим кондиционер и цветной телевизор.