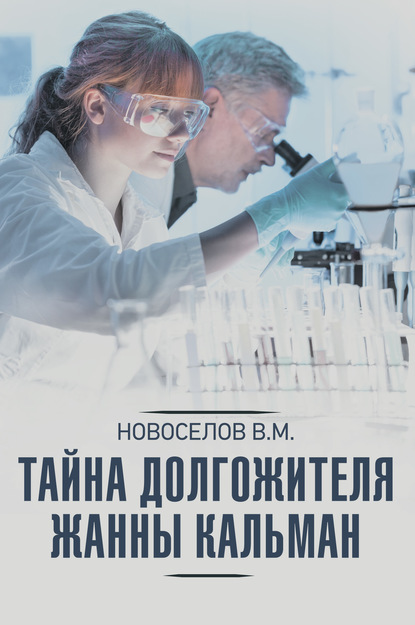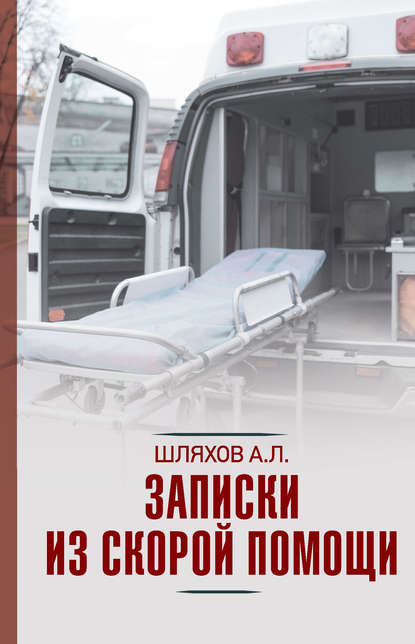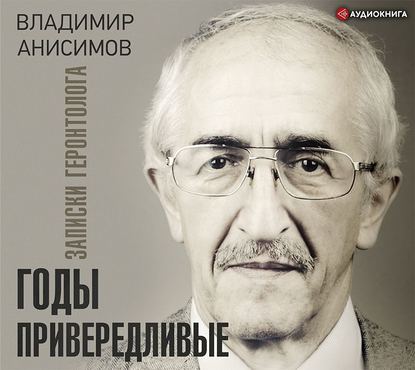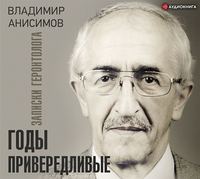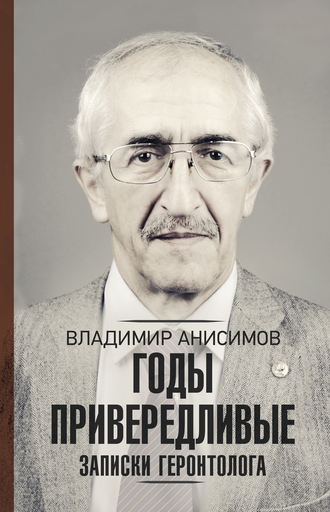
Полная версия
Годы привередливые. Записки геронтолога
Утром пришли грузовики. Мы вернулись в Ленинград. Перед отъездом состоялось заседание штаба отряда, куда впервые пригласили меня. Комиссар торжественно объявил, что как лучшего каменщика отряда меня партячейка представила к награждению Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Комиссара представили к награждению медалью «За освоение целинных земель». Вообще-то, сказал мне комиссар, отряду обещали две медали, и единственным кандидатом на вторую медаль был я. Но потом почему-то дали только одну медаль. Конечно же, партячейка не могла отдать её студенту другого вуза, хоть и такому замечательному, как их доктор, поскольку медали учитывали в соцсоревновании между отрядами и факультетами славного Ленинградского политехнического института имени Всероссийского старосты М. И. Калинина. Грамота ЦК комсомола – гораздо более почетная награда, чем медаль, убеждал меня будущий медаленосец. Я не спорил: грамота так грамота, и на том спасибо. Отряд был славный, песни у политехов были хорошие – я целый блокнот исписал, водку они меня пить научили, много не болели, жили весело, работали хорошо. Лето прошло замечательно.
Глава 2. Введение во храм
Я знаю – всё предрешено.И в будущем лишь то мы открываем,Что о себе и мире мы не знаем,Но было изначально нам дано…День первыйХорошо помню день, когда я впервые пришел в Институт онкологии. Поводом к посещению была заинтересовавшая меня статья «Факелы на пальцах» об эффекте Кирлиан в книжке, изданной «Комсомольской правдой» в научно-популярной серии «Эврика». Супруги Кирлиан обнаружили, что при воздействии полей сверхвысокой частоты биологические объекты излучают некие светящиеся поля, поддающиеся регистрации при фотографировании. При этом характер этого свечения, в том числе его цвет и интенсивность, зависели от функционального состояния того или иного органа или ткани. Особенно меня поразило, что свечение кожных покровов человека было различным в разных участках и распределялось по зонам Геда, а при заболеваниях существенно изменялось. Был я студентом 3-го курса, и мне пришло в голову, что этот метод должен быть эффективным для диагностики рака. Недолго думая я взял книжку со статьей, махнул рукой на лекции и поехал в Институт онкологии, благо располагался он тогда совсем недалеко от I Меда, на Каменном острове. Логично предположив, что с подобным предложением следует обратиться в лабораторию биофизики, я пришел к её заведующему – профессору Павлу Поликарповичу Дикуну, – справки я навёл в регистратуре института. Павел Поликарпович встретил меня хорошо, в свойственной ему манере терпеливо выслушал. Но когда я иссяк, сказал, что его лаборатория занимается выявлением канцерогенов в окружающей человека среде, и, если меня это заинтересует, он готов, несмотря на то, что я студент-медик, а не биофизик или хотя бы биолог, научить меня этому, поскольку проблема становится все более актуальной. Я вежливо поблагодарил, сказав, что меня все же интересует применение метода Кирлиан в онкологии. «Кажется, этой проблемой интересовался Николай Павлович Напалков», – задумчиво произнес Павел Поликарпович. Вот так я впервые услышал имя человека, встреча с которым круто изменила и определила всю мою последующую жизнь. «А в какой комнате его найти?» Павел Поликарпович объяснил, что лаборатория опухолевых штаммов, которой руководил Николай Павлович, уже переехала в одно из помещений комплекса новых зданий Института, построенных в поселке Песочный, под Ленин-градом. Чтобы туда попасть, нужно было доехать на трамвае до Финляндского вокзала, затем на электричке Выборгского направления – до платформы Песочная, а там пешком два километра до Института онкологии. Такое препятствие не казалось серьезным – ведь у меня была идея! Я немедленно отправился на ближайшую к Каменному острову станцию Ланская, доехал до Песочной и дошел до Института. Меня поразил огромный клинический корпус, выстроенный в сосновом лесу. В проходной мне сказали, что лаборатория Напалкова находится в здании вивария, – лабораторный корпус еще достраивался.
Нужно сказать, что Институт онкологии, основанный Н. Н. Петровым в 1927 году, первоначально располагался в одном из корпусов больницы Мечникова на Пискаревке, а затем уже получил комплекс зданий на 2-й Березовой аллее Каменного острова. В конце 1950-х годов было принято решение правительства о строительстве для Института новой клинической и экспериментальной базы. Институту предложили на выбор две площадки – одну на Поклонной горе, в конце проспекта Энгельса, что было в то время на самой северной окраине города. Другая площадка находилась еще севернее, в 25 километрах от города, в поселке Песочный, бывшей Графской, принадлежавшем когда-то могущественному фавориту Екатерины Великой графу Шувалову. Тогдашний директор Института, крупный онкогинеколог, действительный член АМН СССР Александр Иванович Серебров, выбрал местом строительства поселок Песочный. Как обещал в те времена Н. С. Хрущев, совсем скоро наступит коммунизм, в каждой семье будет автомобиль (а то и два), по генеральному плану развития города до Песочного проведут метро и до Института будет совсем рукой подать. Кроме того, при посещении ряда онкологических центров в США и странах Западной Европы А. И. Серебров имел возможность убедиться, насколько удобнее и комфортнее для больных располагать такие центры на природе, где свежий воздух и сама обстановка лечат. Злые языки утверждали, что основным аргументом в выборе площадки для строительства Института в Песочном была близость к Репино, где в академическом поселке была дача директора. Так ли это было на самом деле или нет, мы уже никогда не узнаем. Когда в 1975 году Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт переехал с улицы Рентгена на Петроградской стороне в пос. Песочный, став нашим соседом, появились планы строительства ещё каких-то трех институтов медицинского профиля, заговорили о создании в Песочном медицинского городка. Была и другая версия. В 60-е годы прошлого века началось строительство новых зданий для Университета и многих НИИ Ленинграда в пригородах. То ли в центре места не хватало, то ли это была злая воля тогдашнего всесильного хозяина города – первого секретаря горкома КПСС Григория Васильевича Романова, ненавидевшего питерскую интеллигенцию и старавшегося «убрать её подальше, с глаз долой». Впрочем, это уже другая история…
Итак, я впервые приехал в Институт онкологии. Обогнув клинический корпус, я увидел пруд, за ним большое четырехэтажное здание лабораторного корпуса, а слева от него – трехэтажный корпус вивария, на третьем этаже которого располагалась нужная мне лаборатория опухолевых штаммов. Была середина ноября 1964 года. Земля была укрыта рано выпавшим снегом, он лежал на ветках сосен, был солнечный день, и все казалось восхитительно прекрасным.
Кабинет заведующего лабораторией занимал угловую комнату и был залит солнцем. Вдоль стен и между окон стояли высокие светлые стеллажи с книгами и банками, в которых находились заспиртованные животные с опухолями или отдельные их органы, пораженные опухолевым процессом. Николай Павлович Напалков сидел за столом в старинном деревянном вращающемся кресле (как я потом узнал – ранее принадлежавшем самому Н. Н. Петрову). Он принял меня очень любезно: расспросил, где и как я учусь, где живу, кто мои родители, что я знаю об опухолях. Несколько озадачили меня его вопросы о моем возрасте и разрешат ли мне родители ездить в Песочный. Мне уже было почти 19 лет, позади было медицинское училище, я был студентом 3-го курса медицинского института, дважды побывавшим на целине в строительных отрядах, и я полагал себя весьма самостоятельным и взрослым человеком. Я уверенно ответил, что, конечно же, разрешат. Думаю, что вопрос Николая Павловича был продиктован моим исключительно юным видом. Тогда мы жили на улице Ткачей в Невском районе, метро в том районе ещё не было, и дорога от дома до Института занимала более двух часов в одном направлении. «Ну, ты все же заручись их согласием», – сказал Николай Павлович и перешел к вопросу о цели моего визита. Он действительно интересовался эффектом Кирлиан, даже приобрел установку, генерирующую поля СВЧ, дал мне прочесть фотокопии нескольких имевшихся у него публикаций супругов Кирлиан. Затем спросил, знаю ли я, что такое перевиваемые опухоли и что такое противоопухолевые препараты. Видимо, мои ответы были весьма неубедительными, и Николай Павлович дал мне книжку «Модели и методы экспериментальной онкологии»[8], в которой велел прочесть главу о методах испытаний противоопухолевой активности новых препаратов в опытах на животных. Ещё он сказал, что методом Кирлиан мы займемся позднее, а пока нужно срочно испытать на противоопухолевую активность новый препарат, синтезированный в Химико-фармацевтическом институте. Приехать он мне назначил через неделю, 30 ноября. Я не решился сказать, что в этот день у меня очень важное событие. Окрыленный, я поехал домой – ведь меня не выставили, а пригласили заняться наукой!
30 ноября 1964 годаЭтот день я никогда не забуду по двум причинам. Во-первых, в этот день началась моя научная жизнь. Но началась она во второй половине дня. А с утра я был в Смольном, где состоялось торжественное мероприятие – награждение лучших бойцов студенческих строительных отрядов Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и правительственными наградами. Летом 1964 года я ездил отрядным врачом строительного отряда физико-механического факультета Ленинградского политехнического института на целину в Кокчетавскую область Казахстана. Штаб отряда признал меня лучшим каменщиком и представил к награждению Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Сидим мы с друзьями в историческом зале Смольного, где была провозглашена Советская власть, слушаем речи партийных и комсомольских руководителей. Наконец, речи закончились и начали вызывать по списку награжденных грамотой ЦК комсомола. Мне ждать долго не пришлось – фамилия на «А» в начале списка. И вот мне уже пожимают руку и вручают под аплодисменты красивую грамоту. Очень гордый, я возвращаюсь на место и показываю её моим однокурсникам Сергею Кетлинскому и Жене Соболеву, которые ожидали, когда им вручат медали «За освоение целинных земель». Наверное, целых полчаса вручали грамоты, а затем начали вручать медали. Ждать до буквы «К» было еще долго, мы о чём-то трепались. Вдруг Сергей толкает меня в бок: «Тебя вызывают!» Из президиума по микрофону повторили: «Так есть здесь Анисимов Владимир из I ЛМИ им. Павлова?» – «Это тебя, иди», – повторил Сергей. Я, недоумевая, пошел по проходу к столу президиума, где мне вручили еще и медаль. Оказалось, что районный штаб представил меня к награждению медалью как лучшего в составе их районного ССО отрядного врача, поскольку у меня в отряде была самая низкая заболеваемость и не было ни одного случая гепатита, «косившего» целые отряды.
Переполненный впечатлениями и нащупывая (не потерял ли?) сквозь сумку коробочку с медалью, я приехал в Институт онкологии. Книгу, которую мне дал Николай Павлович, я прочёл и даже законспектировал. Ожидал, что он начнет меня экзаменовать. Однако Николай Павлович, осведомившись о том, посмотрел ли я книгу, достал из холодильника пузырек с каким-то белым порошком. Сказав, что это тот самый новый препарат, противоопухолевую активность которого нужно будет проверить, он направил меня к своей лаборантке Ларисе Зубовой: «Она покажет, как перевивать опухоль, следить за ее ростом и вводить препарат». Я пошел к Ларисе, которая поинтересовалась, умею ли я делать инъекции. Узнав, что я окончил медицинское училище, она сразу перешла к делу, и в течение двух-трех недель с ее помощью я начал свои первые опыты. Замечу, что участие в испытаниях противоопухолевой активности фармакологических препаратов – лучший способ освоить некоторые основные методы экспериментальной онкологии, в частности перевивку опухоли. При этом новичок учится правильно готовить растворы препаратов, вводить их животным, индивидуально метить животных, регистрировать размеры растущих опухолей, получает навыки статистической обработки полученных данных. Поскольку перевиваемые опухоли растут очень быстро, иногда удваиваясь в размерах за несколько дней, каждый опыт длится сравнительно недолго и радость получения первых результатов не откладывается на слишком большой срок. И сейчас, по прошествии почти пятидесяти лет, я с удовольствием поручаю впервые приходящим в лабораторию студентам начинать освоение нашей профессии опытами с перевиваемыми опухолями.
N-N’-малонил-1-бис-этилениминИменно так мудрено назывался впервые в жизни мной изученный препарат. Приезжать в Институт приходилось практически каждый день – ведь инъекции мышам нужно было делать строго по протоколу. Здесь не могло быть пропусков и выходных. Лаборатория располагалась в основном коридоре здания вивария, а помещения для лабораторных животных находились в его крыльях. Животных (мышей и крыс) привозили на машине из питомника «Рапполово» АМН СССР, расположенного в нескольких километрах от поселка Песочный. Никаких ограничений в числе заказываемых животных не было, и моя работа быстро продвигалась. Николай Павлович, встречая меня в коридоре лаборатории, спрашивал, как идут дела, на что я бодро отвечал, что идут хорошо.
В феврале 1965 года Николай Павлович предложил мне оформиться на полставки санитарки. Так появилась первая запись в моей трудовой книжке – санитар лаборатории опухолевых штаммов. Мог ли я тогда представить себе, что когда-нибудь стану заведующим этой лабораторией и буду сидеть в своем кабинете в кресле самого Н. Н. Петрова, перешедшего мне «по наследству» от Н. П. Напалкова?! А тогда в мои обязанности входило в основном мытье полов в лаборатории и отмывание от эмульсии старых рентгеновских пленок. Отмытые и высушенные пленки затем растворяли в ксилоле и добавляли в парафин, в который заливали после выдерживания в спиртах кусочки тканей и опухолей, взятых для исследования у животных. Затем залитые в парафин-целлоидин ткани резали на микротомах, срезы расправляли на предметном стекле, окрашивали специальными красителями, заливали канадским бальзамом и накрывали покровным стеклом. Получались гистологические препараты, которые затем изучали под микроскопом. Этим тонким и хитрым делом владели лаборанты-гистологи – они занимали большую комнату, находившуюся рядом с кабинетом Николая Павловича. Запомнились две из них – Наталья Алексеевна Кузьмина и Эсфирь Соломоновна Спунгина, которые научили меня некоторым секретам своей профессии, в совершенстве ими освоенной. Важными людьми были старшие лаборанты – Ольга Павловна Савельева, всю свою трудовую жизнь проработавшая в Институте, и Елена Ивановна Калинина, – тогда они только-только окончили биофак Университета и в моих глазах уже были совсем взрослыми. Держались со мной, студентом, строго, но благожелательно.
В штат лаборатории входили тогда несколько научных сотрудников – кандидат ветеринарных наук Анна Михайловна Дядькова, занимавшаяся вирусами опухолей у кур и ставшая доктором наук, профессором и заведующей лабораторией вирусологии; кандидаты наук Анна Фёдоровна Кондратьева, изучавшая последствия сочетанного действия канцерогенных факторов, и Вольф Натанович Шалумович, большой, шумный, с виду грозный, но на самом деле добрейшей души человек, потерявший на войне ногу. Он перед войной окончил Институт физкультуры им. Лесгафта и воевал в лыжном батальоне. В лаборатории он ведал цито- и морфометрией и работал на огромном, занимавшем почти всю довольно большую комнату, приборе МУФ-6 (микроскоп ультрафиолетовый), детище славного ЛОМО (Ленинградского оптико-механического объединения). Очень важной персоной был фотограф Борис Яковлевич Голант – безусловно, мастер своего дела. Он делал великолепные микрофотографии опухолей и различных тканей с гистологических препаратов.
В лаборатории были студенты разных вузов: еще до моего появления дипломную работу по трансплацентарному канцерогенезу выполняла студентка биофака ЛГУ Инна Васильева; слушатель 6-го курса Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Леонид Лещёв изучал влияние экстракта элеутерококка на развитие аденом гипофиза, индуцируемых синтетическим эстрогеном синэстролом. Он же в декабре 1964 года привел в лабораторию Алексея Лихачёва, ставшего одним из ближайших моих друзей на протяжении нескольких десятилетий. Алексей учился в ВМА на одном курсе с Лещёвым, но на 5-м курсе перевёлся в I ЛМИ. Ему было поручено исследовать влияние режимов заморозки опухолей на их последующий рост и метастазирование. Дело в том, что перевивка опухолей на животных – один из «базисных» методов экспериментальной онкологии – достаточно трудоёмкий процесс, который требует постоянного внимания к животным, чтобы не пропустить срока перевивки опухоли, когда она ещё не некротизировалась и животное не пало. Опухоль могла инфицироваться, могла не привиться. Но кусочки опухоли можно было взять у мыши или крысы, измельчить, поместить в стеклянную ампулу, добавить питательную среду и заморозить жидким азотом до –196°C на специальной установке. Запаянные ампулы хранили при низкой температуре в «опухолевом банке» – огромном ящике-термостате с толстыми стенками, который набивали раз в неделю привозимым «сухим льдом».
На втором этаже вивария располагалась лаборатория химических канцерогенных веществ, где работали мой друг Борис Друян, разрабатывая модель опухолей семенных пузырьков у крыс, Николай Николаевич Власов – патоморфолог и джазмен – он очень прилично играл на саксофоне, Марк Абрамович Забежинский – ходячая энциклопедия – не было вопроса, на который он не мог бы дать ответа, особенно если это касалось канцерогенеза, литературы, истории города или страны. Заведовал лабораторией доктор медицинских наук Геннадий Борисович Плисс, ученик Л. М. Шабада, крупный специалист по химическому канцерогенезу. В I Меде на кафедре патофизиологии на занятиях, посвященных онкологии, нужно было перевивать на крысах лимфосаркому Плисса. Я вызвался сделать перевивку, скромно сказав ассистенту Н. Н. Петрищеву, который вёл нашу группу, что умею это делать и даже знаком с человеком, давшим свое имя этой самой лимфосаркоме.
Вернемся к N-N’-малонил-1-бис-этиленимину. Пролетел год, действие препарата было изучено на нескольких штаммах перевиваемых опухолей у крыс и мышей, и в один прекрасный день Николай Павлович позвал меня, чтобы я показал ему результаты. Я начертил таблицы, графики, с волнением показал их своему руководителю. Препарат довольно сильно тормозил рост некоторых опухолей. «Пиши статью», – велел Николай Павлович. На мой ответ, что, мол, я не умею, он посоветовал посмотреть, как написаны аналогичные статьи в журнале «Вопросы онкологии». Через неделю или две статья, как я полагал, была готова. «Что это такое?» – спросил Николай Павлович, мельком взглянув на принесенные мной листки. «Не буду же я разбирать твои каракули. Печатай на машинке!» Старенькая лабораторная пишущая машинка «Ятрань» с графитовой лентой никак не поддавалась. Статью пришлось перепечатывать два или три раза, прежде чем Николай Павлович согласился взять её на проверку. В авторах рядом с его фамилией я решился поставить свою. Через неделю или две я получил от него текст, сплошь исчирканный и исписанный мелким аккуратным почерком зелеными чернилами. Мне показалось, что ни одного написанного мною слова в статье не осталось. Стыдно было очень, но самое главное было то, что свою фамилию Н. П. вычеркнул. «Ты хорошо поработал, и это твой материал», – сказал он в ответ на мои протесты. Это был урок на всю жизнь! Позднее Николай Павлович сформулировал нам, своим ученикам, «правила соавторства». В любой исследовательской работе есть несколько этапов: формулировка идеи, разработка подробного плана работы (как сделать?), собственно выполнение опыта, обсуждение результатов (что получилось?) и написание статьи. Право на соавторство дает участие в двух, лучше – в трех позициях. При участии в одной-двух позициях достаточно слов благодарности в конце статьи. Этого простого и понятного принципа, к сожалению, не знают или знают, но не придерживаются, многие руководители в научном сообществе, с чем мне, как и многим другим, приходилось многократно встречаться позднее.
Статью я перепечатывал еще пару раз, прежде чем она с визой Николая Павловича и сопроводительными документами была, наконец, отправлена в редакцию журнала «Вопросы онкологии». Как я радовался, когда во втором номере за 1967 год была опубликована моя первая научная статья [9]! Для студента, а я был тогда уже на 5-м курсе, это было совсем даже неплохо. И на пишущей машинке я уже печатал довольно бегло, хотя и двумя пальцами.
Лаборатория экспериментальных опухолейВ 1965 году наша лаборатория и лаборатория химических канцерогенных агентов начали переезд в новый корпус. Лаборатории экспериментальных опухолей отвели помещения в середине третьего этажа лабораторного корпуса. Соседями были лаборатория эндокринологии, с одной стороны, и лаборатория цитологии – с другой. Стали переезжать с Каменного острова и остальные лаборатории экспериментального сектора Института. Когда Институт онкологии находился на Каменном острове, в его состав входил отдел экспериментальной онкологии, которым руководил академик АМН СССР Леон Манусович Шабад. Затем Шабад был приглашен возглавить отдел канцерогенеза во вновь созданном в Москве Институте экспериментальной и клинической онкологии (ИЭКО). Заведовать отделом экспериментальной онкологии в Ленинградском институте онкологии был приглашен крупный фармаколог и токсиколог профессор Николай Васильевич Лазарев. Когда заканчивалось строительство нового здания в Песочном, было принято решение о расширении штатов Института. Были созданы новые лаборатории, которые возглавили тогда совсем ещё молодые научные сотрудники отдела – П. П. Дикун (лаборатория биофизики), Н. П. Напалков (лаборатория экспериментальных опухолей), В. М. Дильман (лаборатория эндокринологии), Г. Б. Плисс (лаборатория химических канцерогенных веществ), Т. А. Коростелёва (лаборатория иммунологии), М. П. Птохов (лаборатория цитологии), А. Н. Паршин (лаборатория биохимии), С. Ф. Серов (лаборатория патоморфологии), А. Л. Ремизов (лаборатория органического синтеза). Николай Васильевич Лазарев возглавил лабораторию фармакологии и токсикологии.
Лабораторию опухолевых штаммов переименовали в лабораторию экспериментальных опухолей, поскольку работа с перевиваемыми опухолевыми штаммами занимала весьма скромное место в проводившихся в ней исследованиях. Основным направлением было изучение закономерностей трансплацентарного канцерогенеза. Толчком к ним послужила нашумевшая в 1958 году история с талидомидом, таблетки которого, обладавшие снотворным эффектом, принимали в Германии беременные женщины. У этих женщин стали рождаться дети с различными уродствами. Разразился грандиозный скандал. Все бросились изучать тератогенность лекарственных препаратов. Однако еще более опасным представлялось развитие злокачественных новообразований у детей, матери которых во время беременности подвергались воздействию тех или иных химических веществ, включая лекарственные препараты. Лидерами в исследованиях по этой проблеме были лаборатории А. Друкрея в Германии, Дж. Райса в США и наша лаборатория, которую в 1964 году возглавил ученик академика АМН СССР Л. М. Шабада Николай Павлович Напалков. Им уже были начаты огромные по своим масштабам исследования канцерогенности тиреостатиков в ряду поколений. В одном из опытов крысы и их потомки получали препараты в течение 17 поколений!
Нужно сказать, что Николай Павлович Напалков сам был примером многогенерационного эффекта в медицине. Он родился 28 июля 1932 года в семье потомственных медиков, внесших существенный вклад в медицинскую науку и развитие отечественного здравоохранения. Его дед, профессор Николай Иванович Напалков (1867–1938), являлся одним из крупнейших российских хирургов. Отец – Павел Николаевич Напалков (1900–1988), заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, в годы Великой Отечественной войны был главным хирургом 2-го Белорусского фронта. В годы войны родители Николая Павловича были в действующей армии, а он был эвакуирован из осаждённого Ленинграда. Но судьба так распорядилась, что он 11-летним мальчиком стал «сыном полка», вернее, медсанбата, с которым прошёл фронтовыми дорогами половину Европы, встретив День Победы на Эльбе. Окончив в 1956 году с отличием Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, Николай Павлович поступил в аспирантуру при НИИ онкологии АМН СССР, с которым связал в дальнейшем бо́льшую часть своей научной и общественной деятельности.
С переездом лаборатория стала насыщаться новым оборудованием, которое мы тогда во множестве получали. Мне это было не в тягость – сказывалась стройотрядная закалка. Мы перетаскивали бумаги, оборудование и препараты из здания вивария в свои пахнущие краской и новой мебелью «хоромы». Начали появляться и новые сотрудники. В 1966 году Николай Павлович пригласил из Института экспериментальной медицины АМН СССР старшим научным сотрудником ученика академика Н. Н. Аничкова патологоанатома Казимира Мариановича Пожарисского. Один из его предков был знаменитым русским патологоанатомом. Был также из ИЭМа приглашен ученик академика П. Г. Светлова – эмбриолог Валерий Анатольевич Александров. Они оба уже были кандидатами наук и как минимум на 7–10 лет старше меня. Алексей Лихачёв в 1966 году закончил I ЛМИ и поступил в ординатуру НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, которую проходил в нашей лаборатории. В 1967 году поступил в аспирантуру Яков Шапошников, бывший совместным аспирантом Н. П. Напалкова и профессора С. А. Нейфаха, заведовавшего лабораторией биохимии в ИЭМе.