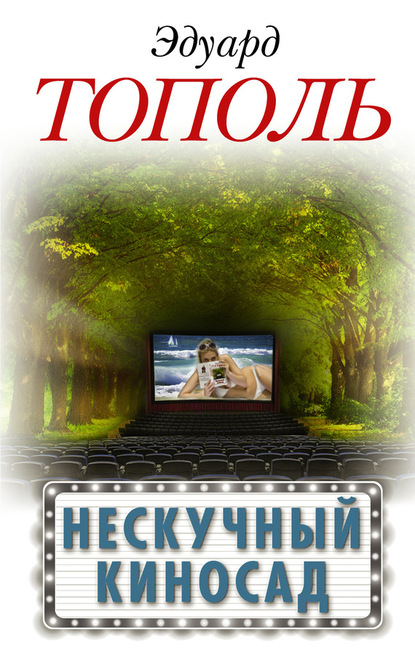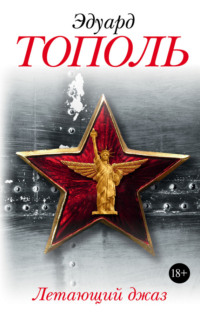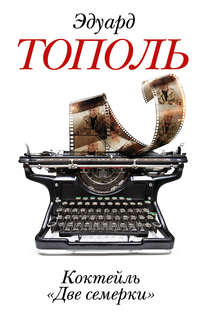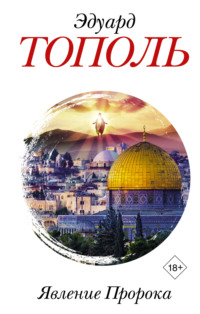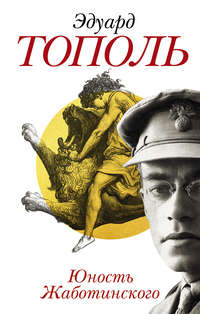Юность Жаботинского

Полная версия
Юность Жаботинского
Жанр: историческая литератураИзраильсудьба человекаполитические деятелиисторические романыбиографические романысерьезное чтениеоб истории серьезно
Язык: Русский
Год издания: 1997
Добавлена:
Серия «Бестселлеры Эдуарда Тополя»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу