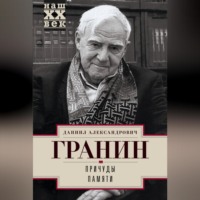Полная версия
Сочинения. Том 2. Иду на грозу. Зубр
Ада считалась в КБ энергичным, серьезным инженером. Кроме того, бесспорно, была первой красавицей завода. Она была настолько красива, что никто не пытался за ней ухаживать. Рядом с ней любой мужчина чувствовал себя недостойным. В КБ были уверены, что у Ады полно блестящих поклонников, соперничать с которыми безнадежно. Из самолюбия она делала вид, что так оно и есть, и держалась еще надменней.
Крылову и в голову не могло прийти, что он может понравиться ей. Он относился к Аде как к старшей сестре или тетке, хотя она была одних лет с ним. Властная, обладающая непререкаемой логикой, она умела подчинять себе людей. Крылов сам не заметил, как стал виновато докладывать ей о каждом шаге.
Прежде всего она убедила его, что он талантлив, не знает себе цены и преступно разбазаривает свои способности. Чего ради он занимается электрическим пробоем? Бесперспективно.
С того дня, как он нацепил университетский значок, жизнь его на ближайшие пять лет – а ему казалось, на сотню лет – была Адой точно распланирована, и ему оставалось лишь двигаться согласно расписанию от одной станции к другой.
К тому времени Крылов и Тулин помирились, и Олег неожиданно поддержал Аду.
– При чем тут пробой, – говорил он Крылову. – Какая фигура! А волосы! Даная! Ты просто счастливчик.
Позже Тулин изменил свое мнение, но тогда его восторги льстили Крылову, было приятно идти под руку с такой красавицей, и чувствовать завистливые взгляды мужчин, и видеть, что она ни на кого не обращает внимания. Втайне он тяготился опекой Ады. В ее присутствии ему приходилось ходить на цыпочках, тянуться изо всех сил. Она не спускала ему ни малейшей оплошности. Она неустанно «приобщала» его, водила на выставки, в музеи, на концерты. Аккуратнее всего, захваченные общим тогда интересом, они посещали политкружки, где азартно обсуждали роль личности, последствия культа. А потом, в коридоре, еще долго спорили, как же это все могло произойти. На завод один за другим возвращались реабилитированные, то, что они рассказывали, было страшно и непонятно. Все чаще без опаски, с уважением произносились имена людей, которых Крылов с детства привык считать врагами народа. Тулин вдруг рассказал, как его отца в тридцать седьмом году исключили из партии и выслали, у Гатеняна брата осудили как шпиона четырех государств; выяснились затаенные обиды, трагедии, хранимые во многих семьях. Каждое такое открытие было болезненным, но вместе с тем росло чувство общего очищения. Пытались угадать, а что будет дальше, убеждали друг друга, что со старым покончено навсегда, строили планы, выдвигали проекты всевозможных реформ. Каждое новое постановление они встречали с энтузиазмом. «Я так и знал, я как раз об этом думал», – заявлял Тулин; Крылов недоумевал: «Сколького мы не замечали». Кое-кто из пожилых осторожничал. Но над ними смеялись – дудки, этот процесс необратим; спорили с Адой – она не видела особого смысла в разоблачении прошлого. Зачем? Зачем столько разочарований? Кому это помогает, только растравляет людям души. Крылов в одном был уверен твердо: правда никогда не может повредить. Правда всегда за нас. И ничто не заменяет правду.
Обсуждался семилетний план завода, дискутировали, сравнивали выгоды гидростанций и тепловых станций. Гатенян припомнил дискуссию о языкознании – миллионы людей на всех предприятиях вынуждены были месяцами изучать проблемы лингвистики, в то время когда в колхозах творилось черт знает что, захлебом стояли очереди. Крылов со стыдом вспоминал, как он сам, тогда уже вроде бы сознательный парень, находил какую-то высшую мудрость в этой статье Сталина. Началась модернизация оборудования.
Ада заставила Крылова заняться прибором для определения чистоты обработки.
Прибор будет называться прибором Крылова. О приборе должны появиться статьи. Ученый на производстве – вот в чем ценность и смысл его работы.
В соответствии с этим должно строиться и поведение Крылова, и внешний облик.
Заготовка, разогретая честолюбивыми проектами, послушно носилась через валки прокатного стана, постепенно принимая нужную форму.
Ада заботливо соскребла остатки окалины, придирчиво осмотрела свое произведение, осталась довольна, и Крылов отправился в завком с заявлением насчет комнаты.
На нем ловко сидел темно-серый костюм, узкий галстук, вывязанный крохотным узлом. Все свои разработки Крылов оформил, направил в бюро изобретений, получил премию и записался в плавательный бассейн.
Его словно прорвало. Пелена упала, он увидел жизнь в заманчивом разнообразии. Каждый вечер в двадцати театрах раздвигался бархат занавесов. На экранах появились новые картины, заграничные и наши. Шли литературные диспуты. Молодые художники устроили выставку. Девчата из соседнего общежития приглашали послушать кубинские пластинки.
Оказывается, воскресенье был выходным днем, существовал яхт-клуб на Островах и сами Острова с белыми ночами, Стрелкой, карнавалами, и ситцевый в черно-желтых квадратах сарафан очень шел Аде.
– Если ты захочешь, ты сможешь стать начальником техотдела, – говорила она, – начальником центральной лаборатории, заместителем главного конструктора. Не ради карьеры – ради интересов дела производство надо ставить на научную основу.
«Прекрасна, как античная статуя, – думал Крылов, – но разве можно обнимать статую?»
Они поехали в Петергоф. Когда пароходик вышел в залив, погода переменилась, заморосило. Крылов накинул на Аду пиджак. Скользкая палуба накренилась, Крылов крепко обхватил Аду за талию.
– Пойдем вниз, – предложил он. Она помотала головой.
Горизонт поднимался и падал, и море вставало серой лохматой стеной. Они были на палубе одни. Ада посмотрела на Крылова. Он виновато убрал руку, Ада слегка покраснела, и он окончательно смутился. Брызги достигали их.
Крылов не понимал, почему Ада молчит, и чувствовал себя все более виноватым.
– Тебе надо сесть за теорию регулирования. – Голос ее дрогнул. – Это основа автоматизации производства. Я тебя очень прошу. Ладно?
Она накрыла мокрой ладонью его руку.
– Обязательно, конечно, – обрадованно сказал он.
– Ты, ты… – она запнулась, – ты читал Винера? Это поразительно. Правда, он несколько преувеличивает значение кибернетики, но это поразительно.
«О господи, все-то она знает! – подумал Крылов. – А я просто темный идиот».
– А Экзюпери ты тоже не читал? На что ты тратишь время? – Она принялась ожесточенно высмеивать его невежество.
Прибор, которым она заставила заниматься, мало интересовал его. Впрочем, он понимал, что для завода это нужно. Неделю он наблюдал, как мастера, следуя своим секретам и законам, определяют точность обработки. Они не подозревали, что все их секреты подчиняются закону Никольса. Ночью, когда цех опустел, Крылов установил интерферометр и с помощью своего Никольса вскрыл все секреты, как вскрывают ножом консервную банку. Прибор получился элементарный. В сущности, Крылов приспособил известные в лабораториях приборы для цеховых условий, однако на заводе поднялся шум, Крылова фотографировали, о нем писали: «Инициатива новатора… с энтузиазмом откликнулся…» Он чувствовал себя неловко, пока Ада не доказала, что талант никогда не знает истинной ценности собственных работ, лишняя скромность так же неприятна, как и тщеславие. Как всегда, он уступил, согласился и написал под ее диктовку заявление.
Гатенян молча выслушал его условия.
– Значит, имени Крылова и перевод в старшие конструкторы? – подытожил он и как-то печально посмотрел на Крылова. – У нас в Нахичевани говорят: если бы от яйца становился хороший голос, то куриный зад заливался бы соловьем.
Больше он ничего не сказал, написал приказ и только спустя несколько дней мимоходом спросил, как идут дела с пробоем. Казалось бы, он должен был радоваться, что Крылов занят исключительно заводскими делами, но в этом вопросе Крылову почудились тревога и укор.
Потихоньку от Ады Крылов вернулся к изучению электрического пробоя. Он сам не понимал, зачем он занимается им.
В глубине души он относил это стремление к своим порокам: бывают у людей страстишки – преферанс или водка, а у него – электрический пробой.
То была первая не замутненная никакими опасениями радость открытия. Он создал свою собственную теорию поляризации и пробоя в некоторых средах. Все выстраивалось красиво, легко, и он первый узнал, понял весь этот сложный механизм. Никто в целом мире не знал истинной картины. Он один обладал сейчас этой истиной, один из всех людей на земле.
Он возвращался из Публичной библиотеки. Ноги его почти не касались земли. Он мог взлететь и парить над Александровским садом.
А что, если он сейчас умрет? И эта тайна уйдет вместе с ним? И никогда никто не узнает? Мысль о смерти была нелепой, но она ему нравилась. Он немедленно помчался к главному конструктору домой.
Когда тот вышел к нему, в пижаме, встревоженный, Крылов сообразил, что Публичная библиотека закрывается в одиннадцать и сейчас, вероятно, уже за полночь. Но тут же он забыл об этом, ему необходимо было с кем-нибудь поделиться…
Главный ничего не понимал в электростатике, зато он твердо верил в своего подопечного.
На следующий день через каких-то друзей Гатенян договорился с самим Данкевичем, и Крылову разрешили доложить о своей работе на семинаре в Институте физики Академии наук.
К докладу готовились всем конструкторским бюро. Девушки вычертили Крылову роскошные схемы и диаграммы цветной тушью. Главный дал Крылову свою роскошную папку для тезисов. Одна лишь Ада относилась к предстоящему выступлению холодно. Она не понимала, зачем это ему нужно. Впрочем, она заставила его отрепетировать несколько раз свою речь и назвать ее по-другому: не новая теория, а как-то скромнее – «К вопросу о…». Уж кто-кто, а она, дочь профессора, знала, как настораживают ученую аудиторию безвестные открыватели новых теорий.
Она проводила Крылова до дверей института, поправила ему галстук, осмотрела с ног до головы и кивнула строго, но разрешающе.
Вечером он в общежитие не вернулся. Назавтра на завод не пришел. Никто не знал, куда он пропал. Ада позвонила в институт. Там сообщили, что Крылов выступил, его сообщение обсудили, покритиковали, он ушел, и больше они ничего не знают.
Появился он через два дня, небритый, исхудалый, новый костюм был измят, в пятнах. Молча пройдя к главному, он вернул ему папку и протянул заявление об уходе. На расспросы он почти не отвечал, морщась, как от боли. На заводе решили, что к их Крылову отнеслись несправедливо. Разве способны эти затрушенные академики, оторванные от жизни, оценить заводского человека! Уж кто-кто, а их Крылов за пояс заткнет всех очкариков. Стоит ли из-за них расстраиваться, подумаешь, критиканы, наверняка завидуют…
Почему-то все считали, что его разобидели академики и это из-за них он хочет покинуть завод. С ним обращались как с больным, осторожно, стараясь не тронуть раны, говорили о футболе, он отвечал принужденной улыбкой, но глаза его оставались глухими.
Директор подписал приказ о назначении его старшим конструктором; через месяц заканчивается заводской дом, ему обещали дать комнату; Ада выхлопотала ему путевку в дом отдыха, – но он стоял на своем: он уходит с завода. Куда? В институт к Данкевичу. Кем? Кем угодно. Ада была уверена, что это просто каприз, блажь. Идти к Данкевичу, который так хамски отнесся к нему! Это же бред. И зачем он нужен Данкевичу? Лично она презирала эти академические институты с их вельможами, схоластами, вокруг самой простой вещи набормочут заумных терминов. Слава богу, она достаточно насмотрелась дома, у своего отца, на эту писанину, лишенную радости живого дела. На заводе Крылов через год может стать заместителем главного. А потом, пожалуйста, если его так тянет наука, защитит диссертацию. В науку надо въезжать на белом коне, а не стучаться нищим, не имея ничего за душой.
Слова Ады отскакивали от него: до сих пор он был послушной глиной в ее руках, и вдруг глина оказалась цементом.
– Может быть, из меня ничего не выйдет, но я хочу попробовать… – твердил он.
Здание, которое она с таким трудом выстраивала, его карьера, которая начала налаживаться, вся его репутация на заводе, работы, которые она задумала для него, – все-все затрещало, зашаталось.
Даже беспечный Долинин и тот осуждал его: «Чего ты вытрющиваешься? Лучше быть первым парнем в деревне, чем последним в городе». С той же горячностью, с какой его защищали, все возмутились его решением. Его называли неблагодарным, обвиняли в честолюбии. По-своему они были правы: он был обязан заводу слишком многим. Гатенян не захотел с ним попрощаться.
Если бы можно было объяснить им всем!
Ада поставила ему ультиматум – или он останется, или между ними все кончено. Что значит «все»? – недоумевал он. Почему они не могут остаться друзьями как были?
– Друзьями? – Она с ненавистью посмотрела на него и вдруг заплакала.
Это было так не похоже на нее, так ужасно было видеть, как по ее белому, неподвижно-мраморному, строгому лицу скатываются слезы, что он почувствовал себя свиньей.
– Ну хорошо, я останусь, – в отчаянии сказал он. – Только не плачь. Пожалуйста.
Невозможно было представить, что эта красивая девушка плачет из-за него. Он не понимал, что происходит. Ада вытерла слезы. «Не нужно жертв. Уходи. Катись. Теперь это уже не имеет значения».
– Боюсь, что из тебя никогда не получится настоящего ученого, – сказала она. – Ты слишком ненаблюдателен.
Внезапное подозрение охватило его, он пытался всмотреться – Даная – и успокоился: это было бы слишком невероятно.
Из него ничего не получится – вот что угнетало его больше всего. То же самое говорил ему Тулин. Два самых близких ему человека пришли к одному и тому же.
В сущности, никому он толком не мог объяснить, как же произошло, что талант, «главный теоретик», лопнул, подобно мыльному пузырю.
Отчего лопаются мыльные пузыри? Теперь он представлял себе, как это происходит. Чьи-то губы раздувают каплю, она растет, блестящая пленка играет всеми цветами радуги.
На ее поверхности отражается небо, искривленные дома, люди. Пузырь считает себя целой планетой. Все, что он отражает, – это и есть настоящее. Это его дома, его люди. Он несет их на себе, и как доказать ему, что это все – лишь отражение! Он считает наоборот: земля и люди – сами всего лишь уродское отражение его красоты. Он отрывается и летит, понятия не имея о ветре или какой-то конвекции воздуха.
Пузырь летит. Он уже не принадлежит никому, он сам себе хозяин. Он – Вселенная. У него свои законы. Он не подчиняется вашим Ньютонам, тяготениям, вашей механике. У него все свое, даже своя электростатика. Ах, какой он прекрасный, этот пузырь! Зря он не раздулся еще больше. Попробовать, что ли?
И вдруг – кр-рак! Лопнул. Не осталось ничего… Мутные брызги. Куда исчез этот сверкающий всеми красками мир с его законами, небом, землей?
Но прежде чем он лопнул, им вволю наигрались.
С отвращением он вспоминал, как, выпятив грудь, он взошел на кафедру, пижонски раскрыл кожаную папку, вытащил оттуда свои бумажки. Первые минут пять его слушали с любопытством. Потом перебили вопросом. Он только готовился приступить к выводу, а его уже спрашивали о конечной формуле, еще не написанной на доске. Откуда они узнали о ней? Пока он недоумевал и собирался с мыслями, кто-то ответил за него, тогда они спросили еще что-то у того, кто ответил, и уже тот снова отвечал, а Крылов еще переваривал его первый ответ и не мог уследить, о чем они говорят. Они спрашивали и сами отвечали, и он отставал от них все дальше и дальше. Словно вспомнив о нем, а скорее ради потехи, они попросили его объяснить механизм переноса зарядов. Он несколько опомнился, принялся рассказывать, но тут же кто-то вежливо указал неточность и доказал необходимость введения поправки. Крылов вынужден был согласиться, попробовал идти дальше, но из поправки следовала другая, его уже не отпускали, перекидывали от одного к другому, не позволяя вернуться к своему выводу. Он чувствовал, что куда-то летит в сторону, и ничего не мог поделать; там, где заряды отталкивались, там они стали притягиваться, плюс превращался в минус, и он не заметил, как пришел к полному абсурду, доказал совсем обратное тому, что у него должно было получиться. Он был игрушкой в их руках. За какие-то полчаса они распотрошили теорию, которую он вынашивал полгода, увидели там то, чего он до сих пор не мог понять, обогнали его, вволю натешились, а он стоял и моргал глазами, даже не в силах участвовать в их споре. Невежество было бы еще с полбеды, самое унизительное заключалось в том, как медленно, тупо он соображал. Ржавые колеса, скрипя, еле поворачивались в его мозгу.
Впервые он понял, что такое настоящие таланты. Они казались ему великанами, сонмом богов. С виду они ничем не отличались от обычных людей: помятые рубашки, засученные рукава, студенческие выражения – «потрепаться», «влипнуть», «мура»; там были ребята его возраста – растрепанные, насмешливые; они курили те же болгарские сигареты, сидели верхом на стульях, но при этом перекидывались фразами, расстояние между смыслом которых Крылову потребовалось бы преодолеть часами напряженных раздумий.
Он попал на Олимп. Бессмертные боги смеялись над ним, и он не мог обижаться – разве можно обижаться на богов? Перед ними можно лишь чувствовать собственное ничтожество.
Юпитером среди них был Данкевич, боги звали его просто Дан, и он разрешал им: вероятно, среди богов все возможно.
Отныне Крылов принадлежал им.
– Нонсенс, – сказал Данкевич. – Разве мы вам ничего не доказали?
– Доказали, – сказал Крылов.
– Что именно?
Требовалось усилие, чтобы смотреть прямо в неправдоподобно черные, блестящие глаза Данкевича.
– Что я тупица, невежда, ничего не знаю.
– Незнание и невежество – вещи разные. Незнание начинается после науки, невежество – до нее. У вас болезнь серьезней: ваш мозг заражен невежественными идеями.
– Совершенно верно, – сказал Крылов.
– Наука – это не самодеятельность.
– Да, – сказал Крылов.
– Нам некуда деваться от молодых гениев, считающих себя Эйнштейнами и Резерфордами. Все они создают новую картину Вселенной. Физика стала слишком модной наукой. В данный момент у меня нет свободного места научного сотрудника.
– Я согласен лаборантом.
– И на лаборанта нет вакансии.
– Я уже взял расчет, – сказал Крылов.
Тонкий, гибкий Данкевич выпрямился, как лезвие.
– На меня такие штучки не действуют. Возвращайтесь на завод. Там ваши идеи не опасны, а дело вы делаете.
– Я не вернусь.
На узком нервном лице Данкевича мелькнула и мгновенно пропала насмешливая улыбка.
– Однако… Самое решительное начало ничего не значит без конца. Разумеется, вы не сомневались, что я жду не дождусь вашего прихода. Что ж вы будете делать?
– Я буду у вас работать.
Данкевич посмотрел на него с любопытством:
– Интересно, каким образом?
Однажды, приехав к Данкевичу со своим шефом профессором Чистяковым, Тулин увидел из окна кабинета Крылова. Вместе с рабочими он сгружал во дворе ящики с грузовика. Тулин попросил разрешения выйти и побежал вниз. Крылов улыбался как ни в чем не бывало – он устроился слесарем в институтскую мастерскую. Дальше будет видно. Он взвалил на спину ящик и, пригибаясь, понес к складу. Тулин шел рядом с ним.
– Хочешь, я поговорю с Чистяковым и устрою тебя к нам?
– Нет, я буду работать здесь, – сказал Крылов.
– Упорство непризнанного самородка. Ах, как красиво! Давай, давай, вкалывай, получишь пятый разряд. Данкевич будет рыдать от умиления.
Крылов сбросил ящик.
– Не трави. Я тебя ни о чем не прошу. Оставь меня в покое. Чего ты меня равняешь к себе? Единственное, что у меня есть, это желание работать здесь, и если я уйду, тогда мне хана.
– Думаешь растрогать этих прохиндеев? На меньше, чем Данкевич, ты не согласен? Думаешь, у него ты станешь гением?
Крылов взял его за руку и повел в комнату, где по средам происходили семинары физиков, ничем не примечательную комнату, пропахшую куревом, с двумя рыжими досками и маленькой кафедрой, на которой он когда-то осрамился.
– Я должен здесь выступить, – сказал Крылов.
– А конференц-зал Академии наук тебя не устраивает?
– Нет, – совершенно серьезно сказал Крылов. – Я выступлю здесь, а они будут слушать меня.
– Мечта идиота, – сказал Тулин. – Разве так становятся ученым!
На следующий день Крылов столкнулся с Данкевичем в коридоре.
– Послушайте, как вас там, – сердито окликнул его Данкевич. – На что вы надеетесь? Переупрямить меня? Напрасная затея.
Крылов почувствовал, как щеки становятся холодными.
– Ладно, я ухожу. Мне больше нечем было доказать вам… Можете радоваться. Подумать только, кого вы одолели! – Он вдруг услышал злость и грубость своих слов и понял, что погиб. Он стоял перед Юпитером, перед самим Данкевичем, но именно потому, что он боготворил этого человека, он обязан был сказать ему все. С каждым словом ему становилось холоднее. Когда он вернулся в мастерскую, его бил озноб.
Он подал заявление о расчете. В тот же день ему вернули заявление с резолюцией Данкевича: «Назначить старшим лаборантом в лабораторию Аникеева».
Требования Аникеева были просты и невероятны.
Экспериментатор должен:
1. Быть достаточно ленивым. Чтобы не делать лишнего, не ковыряться в мелочах.
2. Поменьше читать. Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.
3. Быть непоследовательным, чтобы, не упуская цели, интересоваться и замечать побочные эффекты.
И вообще поменьше фантазии и «великих идей».
Лаборатория – две комнаты, двое научных работников, третий сам Аникеев. Крылов работает у него. Лаборатория исследует процессы электризации.
За целый день произносится несколько фраз. Замеры, подсчеты, снова замеры… Так изо дня в день, недели, месяцы. Хорошо! Никто не мешает думать. Шкалы, стрелки, мерцающие экраны осциллографов, мерное постукивание вакуумного насоса. Чуть поглубже вакуум, теперь добавим газа. Разряд. Замерим. Введем в схему детектор. Не подходит. Надо его приспособить. Замеры, подсчеты. Сережа, выясните погрешности. Замеры, подсчеты. Готово, начинаем снова. Замеры, подсчеты. Откуда скачок? Повторите. Замеры. Снова скачок. Странно. Вероятно, где-то наводка. Все проверить, заэкранировать, компенсировать. Опять скачок. Откуда он берется? Почему такой скачок именно при этой концентрации?
Все останавливается. Больше нечего мерить, нечего подсчитывать. Слава богу, кончены проклятые измерения. Что мне делать? Отстаньте, не суйтесь, идите к черту, в столовую, в библиотеку, к дьяволу.
Откуда же этот скачок? Аникеев молчит. Неужели и боги могут чего-то не понимать? Экран не светится, стрелки лежат на нуле. Тишина. Дни, заполненные тягостным молчанием. Рядом измеряют, подсчитывают. Как хорошо, когда можно замерять и подсчитывать. А что, если тут паразитные токи? Чушь, откуда им тут… А если от поля Земли? Попробуем? Мама родная, конечно, это паразитные токи. Аникеев – гений. Он самый настоящий гений, он маг, чародей, обыкновенный маг! Вот они, паразитные токи. Ну что за прелесть эти паразитики! Но как их устранить?
– Сережа, давайте повесим вот такой виток. Подсчитайте.
Ура, опять считаем, опять можно щелкнуть выключателем, и мертвая груда приборов оживает.
– Хотел бы я знать, какого черта вы загнули эту кривую вниз?
– Я экстраполировал ее по расчетам Брекли…
– Кто такой Брекли?
– Но вы же сами… Еще в прошлом году его статья была…
– Ну и что из того?
– Так ведь там написано…
– Мало ли что печатают! До каких пор вы будете верить всему, что печатают! Что у вас, голова или этажерка?
– Но Брекли – теоретик, классик!
– А вы, Крылов, классический идиот. Ваш Брекли не может отличить вольтметр от патефона. Мне нужны измерения, а не труха этой старой задницы. Классиков надо было учить в институте. Здесь у меня нет классиков. Здесь опыт, и только опыт. И собственные мозги. Ешьте больше рыбы.
– Если кривая не загибается вниз – значит, расчеты Брекли неверны?
– Ну и пусть неверны. Пусть вся теория неверна. Испугались? Придется идти к теоретикам, пусть разбираются. А пока давайте отладим электронику.
Приборы показывают черт знает что, кто во что горазд. Мистика. Ничего, электроника – всегда мистика. Почему не работает, никто не знает. И никто не горюет. Так и должно быть. Через неделю схема вдруг начинает работать, и тоже никто не удивляется. Электроника! Теперь даже непонятно, как она могла не работать. Теперь можно выделывать с ней самые рискованные штуки, она все равно будет работать, ее уже не заставишь не работать…
– Отшлифуйте пластинку германия. Не умеете? Поучитесь…
– Труха. Так шлифовали в палеозойскую эру…
– Лучше, но недостаточно…
– Крылов, если вы экспериментатор, вы должны уметь делать все то, что нужно, и лучше всех. Иначе вам не сделать ничего нового.