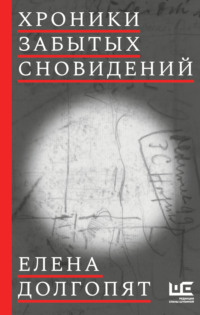Полная версия
Чужая жизнь
Михаил перечитал всё, что только смог отыскать, и выключил комп.
В комнате темно. Снег падает за окном, как в рождественском фильме. Завтра выходить на работу.
Он надеялся, что найдутся неоспоримые свидетели, которые видели актера в другом месте. Надеялся, что дело рассыплется. Но оно крепло. Актер ничего не пытался отрицать. Все жалели его талант, говорили о душевной тонкости, которая проглядывала в любой его роли, о мягкости, покорности характера, отчего он и подпадал под влияние дурных людей.
Драка не вызывала сомнений ни у кого, кроме девушки. Но показания девушки все считали сомнительными. Тем более что нашлись пассажиры того же автобуса, которые уверяли, что актер был, конечно же, пьян и что девушка не могла этого не заметить. Уверяли совершенно определенно и твердо.
Удивительным образом дело вписывалось в судьбу актера, в траекторию его жизни. Как будто было предопределено. И Михаил утешал себя, что всё бы так и сложилось, что всё к тому шло и пришло бы. С ним или без него. Не в этот день, так на следующий. И он сам себя уговорил, что ни при чем.
Кто еще актеры, как не призраки, лишь притворяющиеся настоящими людьми? Такая мысль приходила в голову Михаилу, и в ней он находил утешение.
К середине весны никаких уже новых материалов об актере не появлялось в интернете. Поисковик выдавал всё уже читаное-перечитанное. И всё же каждый день после ужина Михаил вводил имя актера и нажимал «энтер». Иногда по ТВ повторяли сериалы с его участием, но Михаил сериалы не смотрел. Он вообще не смотрел ТВ, даже новости.
Раньше он засыпал мгновенно, и сны ему не снились. По крайней мере, он их не помнил, когда просыпался. Просыпался, смотрел на будильник и соображал, что его не было семь часов, как если бы эти семь часов вырезали из его жизни. Точнее, его вырезали из жизни на семь часов. Сон всегда оказывался его небытием.
После убийства, которое совершил не он, как он сам себя убедил, его ночная жизнь перевернулась. Снов не было. Но и сна не было.
Засыпал он по-прежнему мгновенно. Но через пару часов вдруг просыпался.
Ночь. Проезжала за окном машина, и казалось, что именно ее гул разбудил. Сосед курил на балконе, и дым его сигареты проникал в комнату. Голова оставалась ясной. Жутковатая ясность, как наваждение, от которого не избавиться, не отвертеться.
Он лежал с открытыми в темноту глазами. Он думал о прошлой своей жизни. Но не о том прошлом, с женой. То прошлое казалось ошибкой. Вся жизнь сейчас казалась Михаилу ошибкой. Только один эпизод он и вспоминал как настоящий.
В прихожей темные углы. С черного зонта течет вода. Он не знает, куда его пристроить. Женщина берет у него зонт.
Михаил моет руки и видит его свернутым на крюке. С зонта капает в ванну. Михаил вытирает руки поданным полотенцем, чистым, только что вынутым, видимо, из шкафа. Женщина приглашает его пить чай. Компьютер уже в порядке, он его «вылечил». И она ему шутливо говорит:
– Проходите, доктор, не стесняйтесь.
И он, как это ему ни странно, не стесняется. Пьет обещанный чай с вареньем. Не то чтобы варенье ему нравится, но здесь, на этой кухне, оно кажется отличной добавкой к чаю, к настроению, к состоянию.
Уходить решительно не хочется. За окном, в темноте, лупит дождь. И Михаилу кажется, что он всегда присутствовал здесь, в этом доме, в ее жизни. Всегда. Он понял это, едва переступив порог.
Они сидят на кухне и пьют чай. Ребенок, мальчик, скорее всего, берет стакан с молоком. Конечно же, у них есть ребенок. Ему семь лет.
Звонят в дверь, она идет отворять, он слышит, как она говорит:
– Привет, милый, какой дождь, а нам комп починили, на кухне мастер, чай с малиной, Витенька звонил, скучает по нас, а как ты думаешь?
Так что он чужой в этой кухне, гость. Но это ошибка, что он здесь чужой. Это неправильно.
Михаил лежал без сна и смотрел в темноту, и слышал, как едет внизу машина, и представлял правильный вариант: ту квартиру, ту женщину, ее тепло, их вечность.
Стук швейной машинки из детства тоже казался в темноте чем-то верным, единственно правильным, чем-то, к чему надо вернуться.
Под утро он забывался.
Мечты-видения о несостоявшейся его жизни с той женщиной стали являться ему не только по ночам вместо снов. Он и днем, с открытыми глазами грезил о той несбывшейся жизни, в которой мог быть счастлив, которая ему была предназначена. Правильный вариант его жизни. Но он жил в неправильном. О правильном только грезил.
Как-то раз Михаил очнулся от своей грезы в глухом парке поздним вечером.
Он сидел на обледенелой лавке.
Пустынная аллея. Он не помнил, как сюда попал. Посмотрел на часы, как будто время теперь – единственный его ориентир в запутавшемся мире.
Михаил испугался, что сходит с ума с этими своими фантазиями о другой, правильной жизни. Чего уже только не происходило в них, каких только событий не было пережито, и он ощущал эту выдуманную жизнь гораздо более настоящей, более материальной, плотной. Тогда, на аллее, он даже подумал поехать в дом к той женщине, он помнил дорогу. Он думал, приедет, она ему откроет и скажет:
– Милый, замерз, ужин как раз готов.
Больше того, он поехал. И постоял у дома. И посмотрел на ее окна. Войти не решился.
В этот же вечер, в ночь практически, зашел в круглосуточную аптеку и попросил хорошее снотворное. Все-таки он хотел жить, а не грезить. Какую-то ценность своей реальной жизни он всё еще ощущал. Или просто хотел добраться до смысла, до развязки.
Снотворное действовало, он засыпал, сны не приходили. Силой воли отучил себя грезить наяву. Мать заметила, что наконец-то он стал лучше выглядеть. Она переживала, что он не поехал с женой. Искала в этой непоездке другую причину. Боялась, что ее сына обидели, обманули, предали.
Мать сварила холодец, испекла рулет с грецкими орехами и черносливом, потушила говядину с овощами, накрутила паштет из печени. И всё ей казалось мало, недостаточно, казалось прозой. Она считала Новый год праздником поэтическим, волшебным.
Они встречали этот Новый год вдвоем с Михаилом, Дашка уехала к друзьям за город. Михаил сидел весь вечер у себя, за работой, он служил техническим переводчиком в фирме, а компы ремонтировал по знакомству, отлично разбирался и в железе, и в программном обеспечении. За два часа до полуночи мать принялась накрывать стол в большой комнате. Постелила традиционную белую скатерть, достала и перемыла новогодний чешский сервиз, хрустальные бокалы. Поставила коньяк. Проверила, как лежит в холодильнике шампанское. Погасила свет и полюбовалась на елку, на мигающие разноцветные огоньки. И тут сообразила, чего им не хватает для праздника. Для поэзии зимней ночи. Она заглянула в комнату к сыну и попросила сбегать в круглосуточный за мороженым.
– Возьми самое дорогое, самое лучшее, белое, пломбир. И воздуха заодно глотнешь, целый день за экраном, под излучением.
На кафельном полу в подъезде – цветное конфетти. Михаил поморщился от одной только мысли, что оно налипнет на подошвы. Он пробрался к лифту, нажал черную кнопку, и она загорелась. Маршем ниже, на площадке у окна, стоял в тени человек, и Михаилу почудилось, что он на него смотрит. Михаил от человека отвернулся. Лифт подъехал и отворил двери. За поручень кто-то засунул промокшую, грязную рукавицу. Михаил в лифт не шагнул и повернулся к человеку внизу. Лифт замкнул двери.
Михаил спустился на марш. Человек, к которому он подступил, выпрямился.
Актер.
Он смотрел на Михаила и смущенно улыбался. Голова коротко острижена, на лице проступила рыжеватая щетина. Он мало уже походил на себя прежнего, постарел, осунулся, глаза запали. Но Михаил узнал его мгновенно. Он, кажется, даже раньше его узнал, чем рассмотрел. Едва лишь почувствовал взгляд, знал уже, кому он принадлежит.
– Ждете кого-то? – негромко поинтересовался Михаил.
– Я? Нет.
– А что стоите здесь?
– Так. Греюсь.
– Холодно на улице?
– Ветер.
– А я подумал, что вы ждете кого-то.
Не уходил, не мог вот так просто уйти Михаил, он должен был разгадать, почему здесь актер, зачем. Да и актер как будто бы ждал чего-то от него.
– Вы из шестьдесят седьмой квартиры вышли, – заметил актер. – Вы там живете?
– Нет, – почему-то соврал Михаил.
– А Даша? Вы ее знаете?
Вопрос поразил Михаила.
– Стоп. О чем вы?
– Вы ее знаете?
Михаил заглянул в полубезумные, потемневшие глаза актера и решил сказать правду. Чтобы всё прояснить. Чтобы иметь право спрашивать.
– Даша – моя сестра.
– Ой, в самом деле? – актер обрадовался, облизнул сухие губы и придвинулся к Михаилу.
Михаил отстранился.
– И что? – спросил он холодно. – При чем тут моя сестра? Какое она к вам имеет отношение?
Актер рванул молнию на куртке, полез во внутренний карман и что-то вытащил оттуда, что-то плоское, дрожащее, бумажное. И протянул Михаилу.
Затертый, пожелтевший конверт. Михаил взял его, рассмотрел. Письмо. Актеру, в колонию, от Даши. Михаил взглянул на актера. Он смотрел взволнованно, ожидающе. Михаил вытянул из конверта листок, и актер прикусил нижнюю губу.
«Здравствуйте, я много раз хотела написать Вам. Вы подумаете, что я дурочка. Вот поэтому я и не писала, что Вы так подумаете. А сейчас пишу потому, что все Вас ругают, и в интернете, и по радио, везде.
Я хочу Вам сказать, что тоже один раз чуть не убила человека, пульнула в девочку камнем, мимо, повезло. Могла в голову. Вы мне сейчас снитесь каждую ночь, и мы вместе идем. Я просыпаюсь с мокрым лицом, плачу. Ответьте мне на письмо. Ваш адрес мне выпросила подружка, у папы, он работает в МВД. Мы будем писать друг другу, и Вам будет легче. Я Вас очень люблю. Даша».
Михаил опустил листок и встретился с потерянным взглядом актера. Даже неловко было смотреть на такого совершенно раздавленного, униженного человека.
Он ждал, что Михаил скажет. Но Михаил хранил молчание. Листок сложил и аккуратно спрятал в конверт. Протянул актеру. Но тот не решался забрать конверт, как будто не имел уже на него права, да и никогда не имел.
– Я ей не ответил, – вымолвил он.
– И слава богу.
– Да.
– Других писем она не писала?
– Нет-нет.
– Большое облегчение. Но сейчас что вы от нее хотите? Чего ждете?
– Я?
– Ну не я же.
Актер молчал растерянно.
– Дома ее сейчас нет. Она у друзей, встречают Новый год своей компанией. И парень у нее есть, он тоже там. Вы меня слышите?
– Да-да, конечно.
– Чего вы вообще ждали? На что надеялись?
– Я сам не знаю.
– Даже если бы она дома была? Что бы вы ей сказали? Неужели бы это письмо сунули? – Михаил тряхнул письмом.
– Нет.
– Она вам что-то должна этим письмом?
– Нет! Я, я сам не знаю, я знаю, что сглупил.
– Новый год не с кем встретить?
– Да.
– Ничего страшного. Встретите один, спать ляжете пораньше.
– Мне вообще идти некуда. В принципе. Квартира того, ушла за долги.
– Я сожалею, но Даша тут ни при чем.
– Конечно.
– Идите к друзьям, к знакомым.
– Я пойду. Конечно. Всё правильно.
Глаза у актера опустели и смотрели уже без всякого выражения.
Хлопнула наверху чья-то дверь, запахло сигаретным дымом. Актер взглянул на конверт в руке Михаила. Отделился от подоконника и тихо отправился вниз по лестнице стариковским шагом. Михаил услышал, как открывается и закрывается дверь подъезда. Подошел к окну.
Актер медленно шел через двор. Поскользнулся на льду, взмахнул руками, удержался. Черная ссутулившаяся фигура. Михаил разорвал конверт вместе с письмом. Старая бумага рвалась легко. Руки дрожали.
17 марта был будний день, и все они встали рано, засветло. Вместе сели завтракать. Бубнило радио, которое мать всегда включала, чтобы услышать погоду. И, когда передавали прогноз, она им говорила:
– Тише-тише!
Даже если они молчали. А сама переставала жевать и слушала.
Пообещали туман и гололед, минус два утром, до нуля днем; сразу после прогноза ведущий утреннего эфира сообщил, что сегодня хоронят известного актера, еще два года назад благополучного человека. Девушка – она тоже вела эфир – ахнула совершенно искренне и стала расспрашивать:
– Где умер? В тюрьме?
– Нет, – сказал ведущий, – он вышел в декабре, по амнистии.
– Отчего же умер? Такой молодой! Сколько ему было?
– Не знаю, сколько, может, кто-то позвонит нам из слушателей, скажет. Умер он в больнице, на Галушкина, его нашли где-то в районе Яузы, с обморожением, привезли, алкогольное опьянение, конечно.
– Да, он пил.
– Потому и в тюрьму попал, что пил, едва уже себя помнил.
– Бедный-бедный.
– Знаешь, а мне его нисколько не жалко. Сам виноват.
– А мне жалко. Он очень был талантливый, очень.
Дашка ковырялась в тарелке, глаз не поднимала. И вдруг всхлипнула.
– Даша, – растерянно воскликнула мать. А Даша уткнулась в ладони и разревелась.
Мать гладила ее по спине, по волосам, смотрела беспомощно на Михаила.
Даша увернулась от материнской руки, убежала в ванную. Там зашумела вода.
– Чего она так? – спросила мать Михаила.
В студию дозвонился врач из той самой больницы на Галушкина. Ведущий оторопел от радости, что такой важный свидетель у них в эфире. Врач сказал, что ничего уже нельзя было сделать, полная интоксикация организма плюс обморожение, слишком поздно он к ним попал. Сказал, что прощание с актером будет у них, в больничном морге, желающие могут прийти завтра в десять.
Вернулась зареванная Дашка. Мать налила ей свежего чая, погладила по руке.
– Всё нормально, – сказала Дашка, – всё прошло. Чего теперь.
Она уверила, что действительно успокоилась, только попросила мать переключить на какую-нибудь другую программу, без новостей, чтобы только музыка.
Михаил взял на работе отгул и поехал к десяти на Галушкина. Он думал, что народу соберется немало. Но на снегу возле морга топтались всего трое. Дед с младенческими голубыми глазами, возможно, родственник. Две пожилые дамы. Они походили на старомодных театралок, которые приносят с собой в театр торжественные туфли, пудрятся, пахнут весенними духами и всегда преподносят актерам цветы. Они стояли с печально опущенными хризантемами. Девственно-белыми, холодными и невинными.
Через двадцать минут после назначенных десяти часов двери отворились, их пригласили войти. Дед отбросил сигарету, и она прошипела в снегу. Михаил вошел в промозглое помещение последним.
Священник говорил. Михаил прислушивался, он надеялся услышать что-то важное, то, чего не знал сам. Священник говорил о прощении. Лицо человека в гробу было совершенно белым. Чужое лицо. Михаил никак не мог узнать в нем актера. Он повернулся и отправился к выходу. У самой двери стояла девушка. То существо, которое он так пожалел когда-то, чью мимолетность так остро, до боли, почувствовал. Она стояла с темными розами. Их взгляды встретились. Михаил понял, что и она его узнала. Мгновенно. Поняла, кого приняла тогда, в автобусе, за актера.
Ни слова они друг другу не сказали.
Михаил отворил дверь и вышел под серое мглистое небо. Направился по дорожке от морга. У ворот оглянулся. Почему-то он думал, что девушка идет за ним. Но никто его не преследовал.
В метро от тепла и духоты, однообразного движения, круговорота толпы, черных окон, качки на него нашло оцепенение. Он проехал свою станцию, недостало сил встать и пробраться к выходу. Он ехал всё дальше и дальше от собственного дома и думал, зачем она пришла. Тоже чувствовала вину?
Думал, что так и не прожил свою жизнь.
Поездка
Он сказал жене, что таких маслин нет, и она попросила заехать еще в один магазин, а если и там не будет, то возвращаться домой, так как гости уже начали собираться. Он спрятал телефон и направился к машине.
Темно, восьмой час, середина декабря, в Москве слякоть.
Он уселся в машину, но поехал не сразу. Мокрый снег залепил лобовое стекло, он перестал видеть, что происходит снаружи, мир ограничился холодным салоном, свернулся в горошину, свился в клубок. Он включил приемник. Чей-то голос сказал: «…около нуля…». В боковое стекло постучали. Лицо за стеклом было размыто, оно как будто таяло.
Он опустил стекло. Женщина сказала продрогшим голосом:
– Простите, вы не могли бы меня подбросить?
Дыхание ее было влажным.
– До метро. Двести рублей.
Он отворил дверцу. Она уселась и сказала:
– Холодно.
До метро было минут десять. Ехал не спеша. Женщина ему понравилась, только он не знал, чем. Он хотел угадать, прежде чем ее высадит. На светофоре перед метро спросил:
– Далеко вам еще?
– В область.
Часы у нее на запястье. Старые. Он помнил такие у мамы. Что-то в ней чудилось из того, давно прошедшего времени.
Сейчас таких лиц не бывает – так примерно он подумал.
Их только на фотографиях можно увидеть или в хронике.
Лицо казалось молодым – полумрак растворял морщинки. И хорошо, пусть растворяет, иногда совершенно не хочется никакой четкости, ясности, определенности. Полумрак растворяет и разделяет.
– Как долго красный! – воскликнула она.
– Торопитесь?
– Электричка в двадцать сорок пять. Следующую ждать два часа, я не выдержу и усну где-нибудь в зале ожидания, я ночь не спала и едва на ногах, если я усну, то уже до утра, и опять весь день маяться, потому что человек, к которому я еду, бывает дома только к вечеру, а мне его нужно застать. Долгая история. Но почему красный до сих пор? Может, светофор сломался?
– Правительство едет.
– Черт!
Когда она говорила, иллюзия того, что ее лицо принадлежит прошлому, исчезала. И таким образом, когда она то молчала, то говорила, ее лицо то уходило в туман времени, то выступало из него и становилось прозаически близким. Это волновало. Еще ему было любопытно, один он ее так воспринимает или нет?
«Дворники» упорно расчищали поле обзора, поле снежной битвы.
– Трасса пуста, – сказал он, – сейчас промчатся.
– Тогда вот что, – сказала женщина и выложила на приборную панель две сотенные, – спасибо, а я побегу, быстрей вас к метро успею.
Она стала отщелкивать ремень безопасности.
– Куда вам конкретно ехать?
– По Ярославке. Далеко. За Пушкино.
– Пристегните ремень. Я вас довезу.
Он не очень разбирал выражение ее лица в полумраке, и она, очевидно, не разбирала, что выражает его лицо, всматривалась близоруко-удивленно.
– Вам по пути?
– Да.
Правительство тем временем пролетело. Опустевшую трассу перебежала дворняга, точнее, перешла. Она не спешила, знала каким-то образом, что можно не спешить.
– Я смогу еще двести рублей заплатить, не больше.
Дали зеленый.
Дома собирались гости, жена волновалась, посматривала на часы. Николай Алексеевич вез незнакомую женщину далеко, за город. Совершал неразумный поступок. А Николай Алексеевич был человеком разумным.
Что на него вдруг нашло, он и сам не мог объяснить. Почему-то не хотел он упускать эту женщину, она его встревожила, он сам себе должен был разъяснить чем. Да, в этом, наверно, и заключалось всё дело: он не любил неясностей.
Она меж тем успокоилась в мягком кресле, расслабилась и задремала. Он выключил радио. Старался ехать ровно, без толчков. Зазвонил его мобильник. Он нажал кнопку, сказал в наушник:
– Да?
Старался говорить негромко, но спутница проснулась. Ночь скрывала, скрадывала приметы времени. Время было украдено, они ехали вне его по ночному шоссе.
Он разъяснил в наушник:
– Закон трактуется неоднозначно. Формулировка должна быть особенно осторожной. Я предлагаю вернуться к первому варианту.
Отключил телефон.
Ехали в ровной тишине, и он думал, что сейчас она снова уснет, сомлеет. Огни приближались и вдруг оказывались позади.
– Вы юрист? – спросила она.
– Нет, – соврал он.
Она смотрела вперед, на дорогу, отрешенно, вся отдавшись движению, полету. В темноте это и правда казалось полетом, тверди не чувствовалось, огни проносились в черном пространстве, почти космическом.
– Я ресторанный критик, – зачем-то сказал он.
Он остановил машину и приоткрыл дверцу, чтобы вдохнуть здешний тихий воздух. Услышал шорох и не сразу понял, что это с шорохом идет снег. Пассажирка выложила еще двести рублей на приборную панель. Попрощалась и забыла о нем.
Он наблюдал, как она выбирается из машины, идет к подъезду, поскальзывается и удерживает равновесие.
Николай Алексеевич видел из машины окно освещенного желтым светом подъезда. Видел ее, поднимающуюся по лестнице. Картинка в волшебном фонаре.
Она поднялась на площадку.
На втором этаже осветилось окно.
Он всё чего-то ждал. Медлил уезжать.
Вдруг увидел в волшебном фонаре, как она спускается по маршу, придерживаясь за обшарпанные перила белой рукой.
Свет всё горел на втором этаже.
Она вышла из подъезда. Прежние ее следы уже занесло.
Свет в окне погас, но кто-то там стоял за потемневшим окном и смотрел, как она выходит.
Снег поскрипывал.
– Садитесь, – позвал он ее.
Она обошла машину и села рядом с ним.
– Зачем вы не уехали?
– Ждал.
– Чего?
– Не знаю.
Она молчала и смотрела в залепленное снегом окно. «Дворники» замерли.
– Куда едем? – спросил он.
– А вам не надо домой?
– Нет. Я в отпуске.
– Вы мне скажите сразу, чего вы от меня ждете?
– Ничего.
– Денег у меня нет.
– Я понял.
– И… ничего вы от меня не дождетесь.
– Я понял.
– По виду вы человек солидный. Положительный, как сказали бы прежде.
– Я и есть положительный. В конце концов, выбор у вас небольшой. Тот, к кому вы так стремились, вас даже на порог не пустил. И вы остались одна в спящем поселке, без денег, без надежды.
Она вдруг рассмеялась.
– Так что? – спросил он. – Назад в Москву?
– Тот, к кому я так стремилась, уехал из дома. И мне по-прежнему нужно его увидеть.
– Куда он уехал?
Снег кончился к утру. Далеко от Москвы.
Спутница его спала, он пристал на обочине и тоже уснул. Очнулся в сумерках. Ее не было. Он потрогал пустое, холодное сиденье. Машины проносились, вздымая грязь. Он выбрался наружу и огляделся. Место было грустное. Серое небо, снежное поле. В деревне на той стороне уже зажглись огоньки. Там, у обочины, стоял старик и никак не мог решиться перейти. Машины проносились на огромной скорости, старик боялся. Почти уже решался, но, завидев горящие, летящие фары, отступал. Николай Алексеевич побрел по обочине. Ушел недалеко, чтобы не упустить из виду машину.
Он проверил карманы. Бумажник, деньги, карточки, всё было на месте.
Куда она могла уйти? Зачем? Может, остановила другую машину. Или вышла размять ноги, и кто-то притормозил, спросил, в чем проблема, и предложил подвезти, по пути оказалось. Хотя бы записку оставила. И он бросился к машине – вдруг не заметил записку.
И на полу посмотрел, не нашел. Почему-то остался уверен, что записка была, что видел спросонья белый листок, соскользнувший с приборной панели на пол. Он его затоптал, вынес наружу, и записка пропала в грязной снежной каше.
Старик всё стоял неподвижно на обочине. Всё должно было остановиться, машины, время, чтобы он перешел. Николай Алексеевич достал тряпку, протер стекла, зеркала. От усердия оттопырил губы. Действие помогало отвлечься.
Он не мог решиться завести мотор и уехать. Он чувствовал себя старым, старше старика на обочине. Грязным, грузным, некрасивым, брошенным и глупым до пустоты, до звона в голове. Ведущий юрист, уважаемый человек, отец семейства, где он? Лежит мертвый в московском переулке.
Николай Алексеевич чувствовал себя убийцей себя самого. Он был сейчас один в безвоздушном пространстве. Земля – дом, колыбель, – видна, но не доступна, он кружил вокруг нее на далекой орбите, кислород еще есть в легких, но скоро закончится.
Николай Алексеевич бросил тряпку в багажник. Фура проехала, он перешел на ту сторону, взял старика под костлявый локоть, переправил.
Старик побрел по обочине. Николай Алексеевич смотрел ему вслед. И сам пошел следом. Куда приведет его старик – неважно. Даже неинтересно. Свернул к автозаправке. Старик ушел дальше.
Николай Алексеевич сходил в туалет, ополоснул лицо, выпил жутко горячий, огнем дымящийся, обугленный кофе. Он был один в крохотной забегаловке. Смотрел, как заправляют грязный внедорожник. Водитель курил в сторонке, на краю асфальтового круга. Ничего интересного в таком бездумном смотрении, кроме того, что ты видишь, а тебя нет, тебя нет, а ты видишь.
Смял бумажный стаканчик.
Вернулся к машине.
Она сидела как ни в чем ни бывало. Пакет со свертками лежал на заднем сиденье. Она смотрелась в зеркальце, подводила губы. Он уселся, машина качнулась от его тяжести.
– Я поесть купила, – сказала она. – На той стороне магазинчик, очень симпатичный.