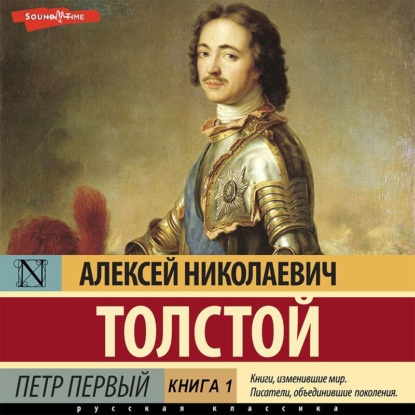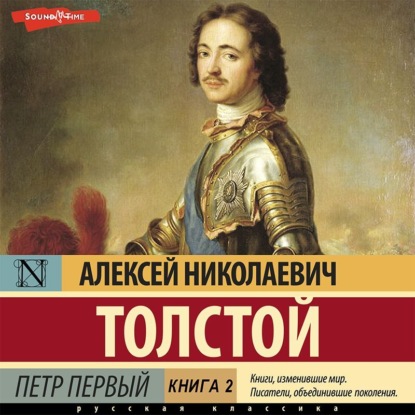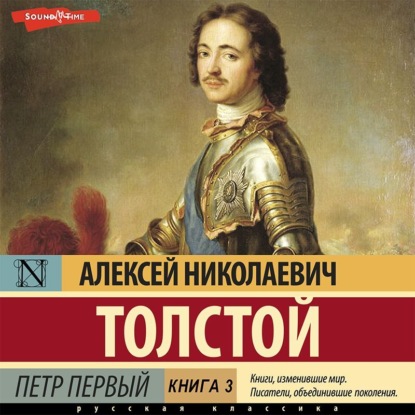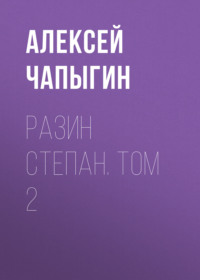Полная версия
Гулящие люди
Из прируба вышел хозяин с рубцом под правым глазом, левый был тусклый, сказал солдату:
– Ты ба, служилой, в избе бой не чинил, неравно убьешь, волок ба за ворота!
Солдат замахнулся на хозяина:
– У-у, ты! Гукну вот своему полковнику немчину, тоды тебе правеж, а шинок поганой опечатают…
– Бей, коли! Ты в ответе…
Солдат за волосья уволок женку на двор. Сенька слышал, как он выкрикивал:
– Убью! Рухло по кабакам зоришь, робяты голы!
Баба выла и затихла. Хозяин стоял, не то слушал, не то в окно глядел. Из прируба вышла хозяйка, подошла к мужу.
– Солдату отпусти хмельного… денег сунь, а то наведет расправу – хоронись тогды в ино место. Слы-ы-шь?
– Чую – не толкуй… пущай угомонится. – Хозяин скрылся из избы.
Анкудим вышел из прируба с кувшином, в сермяжном озяме, сел к столу допивать мед. Его одежда, вымытая от навоза, висела над черным устьем печи на ухватах – рубаха, ряса и скуфья. Наливая в чашку оловянную мед, Анкудим говорил:
– Спаси, спасе, все исходит к ладному концу! Быть бы в пути нынче, да грех лег у порога храмины сей… хозяева же зело хлебосольны…
Молодая женка пристала к Анкудиму с говором:
– Чуешь, чернечик, как увечно бьют бабу? Вот она, доля наша… Сунусь домой, и мне против того тое терпеть.
– Бражничал да мылся – и всю ночь очей не сомкнул, спаси… а зрел зде и не дале окаянство твое, лиходельница, как ты, будто бес, спутника мово блазнила. Срам твой зрел… учить тебя пуще той надо – бить!
– А пошто он кудряш? А пошто базенькой? Такому от баб покою не будет… Чуй, отец, примите меня с собой – убреду хоть на край света…
– Богородице, храни… дале врат монастырских не убредешь!
– Отец, ты молодшего спусти, монахом не будет, – ведаю крепко.
– Оле-о! И мать его сыщет с меня, коли проведает… От греха угнала, а я, недостойный, навел на худчий…
– Не лгу, отец! Спусти со мной молодшего, а я в холопки продамся, его же буду питать и обряжать.
– Запри гортань, блудница! Спаси, спасе, сказываешь такое с глупа ребячьего разума, – закону о себе не ведаешь! Перво – куда бы ты ни утекла, муж сыщет, привяжется, господарь, у которого муж в холопех, тоже, и тебя со стыдом и боем домой оборотят. Едина твоя бабья доля – у мужа в руках аль в монастыре в черницах, иного пути не ищи!
После слов монаха Сенька видел, что бабу как бес с лавки толкнул, она зачала плясать по избе да кричать:
– А я в гулящие бабы пойду! А я нищей стану у церкви!
Анкудим ей строго прибавил:
– И закон тебе тогда будет как собаке – плеть да обух! – и закрестился, читая молитву: «Грех мой пред тобой есть, выну…»
По всем путям серпуховским, коломенским и другим ходил Анкудим, отыскивая тайные кабаки. Прихрамывая, принюхивался, как пес, но изошли все деньги, тогда он с последнего ночного постоя одноконечно повернул в Новгородский уезд. Когда Сенька спрашивал монаха: «Пошто Анкудим так поспешает?», монах обмолвился:
– Деньги пропиты… по полям ветер, волци да лихие люди… а пуще того, ежели ввечеру, то поспешать надо, из Богородского села на остров к ночи лаву разберут… Добро спать в келий, да и монаси имутся, яко Митрофаний, хмельного добудем…
Когда ночевали в монастыре, то Сенька от монахов проведал, что самый большой в нем грамотей – некий недавно постриженный Тимошка, при постриге названный Таисием, к нему и архимандрит с письмами ходит, ежели надо дать кому отписку. Монахов Таисий тоже учит проповедническому складу, в печатном деле он же назрит правильное титло в новопечатных книгах и в правке книг с греческого понимает борзо.
Сеньку в монастыре сдали на послушание. Парень матерый, что ни день – в рост идет, а грамоте не обучен. Святейший монасей тупых грамотой не любит. Анкудим по уговору с Сенькой – «что быто, то забыто» – решил ему выговорить почет и известил монастырское главенство: «Приведенный мной отрок не смердьяго рода и не мещанина тяглого сын, сын он стрелецкий, отец его при государе стоит – Стремянного полка ездовой». Решено было отдать новца Таисию в послушание и поучение. Сенька признал в Таисии того молчаливого питуха, коего кто-то в тайном кабаке назвал царским сыном. Таисий, взглянув на Сеньку, усмехнулся, сказал поучительно и складно, благо послухов кругом не было, были они одни в келье:
– Как стояли мы по запретному делу на тайном кабаке и за тайное питие, кабы нас уловил караул, сошлось бы платить кабацкому голове полтину, а воеводе, по уложению, приучилось бы ставить спину нашу под батоги. Мы же утекли добром, так видно, брат Семен, и нынче против того суждено нам, как брат брату, делать заедино по-тонку, ибо монаси – царские богомольцы, в миру они те же кабацкие головы.
– Мне чего желать, брат Таисий? Я, коли гожусь делать что для тебя по-тонку, туда и иду!
– Вот так – аминь!
– Грамоте, вишь, не обучен и по-тонку делать мало годен.
– Грамота – дело великое… и ежели ты будешь всюду идти за мной, то грамоте обучу, зачнешь борзо чести. Идем!
По дороге в монастырское книгохранилище Сенька говорил:
– Был я, брат Таисий, у мастера, да он завсегда хмелен – учил худо по букварю…
– Нам букварь не надобен! – Таисий повозился мало с грудой книг и выволок одну, Сеньке показалось – самую толстую. – Вот зри! Аз, буки, веди, глаголь, добро. – Таисий перекидывал тяжелые листы и снова возвращался на прежние. – Спервоначалу зачнем складывать – аз, буква первая, но ты ее переставь на любое место, вот буки впереди: будет ба, буки аз – ба! Веди впереди будет: веди аз – ва. Буквы не стоят на одном месте, и ты их переставляй – вот еще: добро и аз – будет да!
– Это вразумительно и легко.
– Что понял, то и легко. Запомни на глаз: аз буква – домик с поперечиной, добро – домик на ножках, глаголь – едино что кочерга вверх крюком, иже – две палки стоячи, поперечиной наискось связаны, наш – буква, как иже, только, зри, поперечина едино, что кушак по кафтану, прямая, и одна палка с круглой шапкой наверху. Мыслете – два домика рядом. Нынче возьмем мыслете и аз, будет – ма, еще рядом поставим против того же мыслете и аз – будет мама.
– Ой, и ладно же!
– Теперь закорючка петлей вниз с палкой за ней – будет еры, а без палки – ерь.
Потом новый учитель показал Сеньке титлы и счисление до десяти, объяснил, что аз – один, буки – не числится[35], а веди – два, глаголь – три, добро – четыре, есть – пять!
Ежедень ходили они в книгохранилище. Время шло скоро, и Сенька неожиданно для себя оказался способным чести книги, он замечал, что с каждым днем узнает новое… Сразу не далась ему только грамматика и просодия, но и тут он приналег изрядно, стал понимать. Одного лишь понять не мог и думал: «Да как же так? Мастер годы учит ребят, бьет их, пугает, а Таисий обучил шутя, будто играл песни, по книге». Поучившись, шли они в монастырскую трапезную, где Таисий посреди трапезной на тот день читал жития святых. За столами обедали розно: за одним – монахи, за другим – бельцы и миряне. Сеньку Таисий оставил у себя в келье. По ночам после службы тайно пили из рога табак, а дым пускали в печную трубу. Таисий, поучая Сеньку, рассказывал ему о своих бегах за рубеж.
Бывал он в Литве и у турчина. Мало-помалу уяснил Сенька, что его учитель пуще всего хочет собрать денег сколь можно больше и даже верит в клады, схороненные в старых могилах. В заговоры, разрыв- и плакун-траву не верит.
– Пошто много денег? – любопытствовал Сенька.
– Деньгами, брат Семен, можно откупиться от воеводы и палача. Дьяков да подьячих купить еще легче. Это завсегда помни!
К чтению Сенька так пристрастился, что после службы стал прятаться на полати собора, где без приберега лежали многие книги. Монахи, бражники кои были, те стали подшучивать над Сенькой, а тот монах, именем Илья, который в Иверской заведовал ключами соборов, даже лаял Сеньку не единожды. Таисий, прознав это, упросил настоятеля, чтоб послушнику его Семену не поперечили ничем быть книгочием. Когда же проверил Сеньку по всем правилам чтения, то поставил вместо себя читать за обедом в трапезной. Таисий так же успешно обучил Сеньку письму. Анкудиму, спутнику Сеньки в Иверский-Святозерский, от правил монастырских стало скучно, он уговорил власти монастырские пустить его в Москву. Монахи с Анкудимом к святейшему[36] послали челобитьецо малое: «Пожалуй нас, великий государь, святейший патриарх, угодьями, кои лежат впусте круг Валдай-озера». Анкудим сказал Сеньке:
– В Москве буду, твоих навещу, кому иному, а матери дай отписку и благословение испроси!
Сенька, чтоб порадовать матушку Секлетею, написал ей письмецо в трапезной в присутствии двух-трех монахов как послухов над письменностью послушника. В кельях, по правилам монастырским, чернил, перьев держать не разрешалось. В ночь, когда отошел из Иверского Анкудим, лежа на постелях, Таисий поучал, как всегда, Сенька слушал:
– Отсюда уйду, только, брат Семен, я тебя еще с тайного кабака приметил и полюбил. Тебе тоже с чернцами быть не след – уходи и ты за мной, мало медля. Мир дуракам широк, умным узок он – встренемся в миру и будем заедино.
– Я тебя тоже люблю, брат Таисий.
– Запомни, брат: в миру, о коем я чел многие книги, нет святости.
– А чудотворные иконы?
– Чудотворные или иные иконы рук иконников, ученных тому, и монахов изловчение, да еще вера ослепленных попами людей. С чудотворными деется тако: старцы юрода изберут, угрозят ему узилищем альбо денег дадут и указуют: «Делись!», «Прорицай!». Народ же, узрев дивное и признав святость в юроде, течет толпами к монастырю, несет деньги. Помирая, иной вклады деет на помин души. Царь и бояре тож за монахов стоят и им поблажки деют на тот случай мног, и в уложении царевом роспись есть – сколь платить церковнику, ежели обидишь его: за обиду патриарха и голову секут. Как брату своему, тебе открою ныне, что втай держу. Замыслил я царем стать. Внимай: был такой малоумный царь Федор, Грозного царя Ивана сын, рождена от него едина дщерь, да и та скоро кончилась. Я, как время тому изошло немалое, назовусь сыном того царя… ежели по летоисчислению сын Федора царя и много старее меня был бы, но кому стукнет в голову оное исчислять? Был уж один самозванец, сыном Федора звался, – это после Гришки Отрепьева, но дьяк иной, может, и ведает такое по книгам, да народ дьяку не верит. Бояра к летоисчислению и летописанию тупы и безграмотны, да и боярам народ не верит. Верит народ истцу да удалому молодцу! Так как время то было до Никоновой правки служебных книг, я, где прилучится, буду сказывать о старой вере, а старая вера живет крепко в польской Украине[37], среди казаков и запорожцев… думку мою, как душу свою, храни крепко.
– Верь мне, брат Таисий…
– И вот, посмекаю денег – кинусь в Запорожье, хохлачи не единого самозванца к Москве выводили и царем звали и чести ему требовали… при хабаре добром и я царем стану…
– Ой, страшно так-то, брат!
– Что мне бояться? Голову потерять не страшно, так что ее и без того потерять ежечасно можно… Хабар изломится – удачи не будет, сбегу в Литву, ляцкий язык свычен мне… не впусте нынче трудился над польской книгой, кою прислал в монастырь патриарх, требуя переложить ее на наш язык. Там, коли что, утеку в турчину, проберусь в индийское царство – за рубежом дорога широкая… Денег надо поболе. – Таисий сорвался с одра, кинулся к двери и, осторожно приоткрыв ее, выглянул в коридор. Ложась обратно, сказал: – Почуялось, будто кой раб у двери стоит.
– Мне слышалось тоже, – ответил Сенька.
– Одно дело сорудуем на днях, а дело такое – для ради денег, – деньгами легко купить кого мне надо, и везде тебе ворота отперты – разрыв-трава – это деньги! Перво дело, мыслил я, до казны монастырской досягнуть, но то нам несручно, крепко берегут ее старцы посменно. Нынче иное, сыскал чертеж церквам: старой деревянной и каменной, коя еще строится. В том чертеже каждый угол и столб мне ведомы… В деревянной Иверская пядница в церковь положена при освящении, на ей риза золотная, дробницы звездами по венцу. Противу того, как риза у образа цата с большим камением[38]. Еще имется Иверская Афонская, и та икона с царем на войну пошла. Но с Богородицей после – перво дело подсоби мне – залезем под паперть, под полом ухоронен корыстной чернище Нифонт.
– Но, брат Таисий, плита Нифонта у алтариков на паперти, меж столбов, – я не единожды чел то рукописание по камени.
– Пожди, брат Семен, и чуй – старец тот был казначеем во многих киновиях и строителем церковным был же. Денег имал, ведомо мне, тьмы-тем, ложен в колоду в праздничном клобуке, серебром шитом. Мекал я, в том клобуке его деньги, родни не знал, монахов таился, монастырю и на помин души пулы[39] медной не дал… Плита на паперти, кою зришь ты, чести для его и памяти. Керста Нифонта под полом в каменном гнезде, под плитой многопудовой. Перед смертью ему ее соорудили каменщики, иные от них нынче новую церковь устрояют… По-тонку я тех каменщиков допрашивал и все познал…
Прошло немало времени. Сенька, уставая на монастырских работах, забыл разговор с учителем Таисием, но он, Таисий, видимо, от замысла не отступился, сказал перед сном:
– Сею ночью взбужу, брат…
Оба они лежали в тонком сне. Сенька смутно мечтал, Таисий выжидал поздних часов ночи. Позвал тихо:
– Бодрствуй, брат, – и не дал Сеньке надеть монастырские уляди, онучи указал окрутить вервью и сам был в онучах.
Он прихватил с собой короткий лом, на конце лома, чтоб не бренчал, была намотана перщата. Подошли к паперти темного собора – в углу Таисий нагнулся и из фундамента, на котором лежало нижнее бревно, вынул с помощью Сеньки плиту. Под плитой оказалось отверстие. Когда Сенька вслед за Таисием пролез под паперть, в лицо его пахнуло смородом мертвых. Таисий раскинул полы подрясника, под полой был скрыт маленький слюдяной фонарь. Сквозь слюду тускло озарилось низкое подземелье. Между деревянными столбами, которые верхом своим доходили до сводов паперти, под полом было в ряд расположено три гробницы. Сеньке кинулась в глаза корявая надпись на серой плите: «Иеромонах смиренный Нифонт». Таисий молча указал рукой в деревянный потолок, оба они стояли недвижимо и слушали. Из собора еще не ушел соборный старец Илья, пришедший досмотреть негасимые лампады. Старец ушел и долго звенел ключами, сперва у дверей, потом по двору.
– Теперь орудуй, вот лом! Сдынь плиту.
Сенька ответил:
– Не потребен лом – я руками, – понатужившись, приподнял многопудовый камень, потом повернул его боком…
Монахи, видимо, узнали, что кто-то ходил в усыпальнице под старым собором, и едва лишь окончилась служба, архимандрит Филофей с древним настоятелем Паисием пошли под собор, их сопровождали старцы-строители – патриарший Евфимий и монастырский Максим. Монахи не узнали, что решили у гробницы Нифонта власти, только гробница показалась им тронутой мало. Архимандрит распорядился пол в усыпальнице посыпать толченой известью. Все знали, что это «для следу». Ключи от усыпальницы вместе с ключами собора хранились у старца Ильи.
Кругом монастыря на острове, где собор и икона Иверской, залегали стена и город. Городом звались все кельи, житницы и башня, рубленная в шесть углов, печатная и малая с ней о бок квасоваренная. Трапеза и еще патриарша палата с кельями тоже патриаршими. Эти же кельи служили приказом. Стена прозывалась городней оттого, что на сажень с пядью была кладенная кирпичом и камнем, а сверху рубленная. В стене трое ворот – Пречистые находились против собора, лицом к лаве, что перекинута с острова в село Богородское, Кузнечные – против квасоваренной башни, и Водяные ворота стояли лицом и иконой к широкой стороне озера. Зимой сквозь них ездили за водой. Летом через них же таскали воду на коромыслах. В деревянной части стены у монахов, особенно старых и заслуженных, были кельи. В кельях – печи. Хотя в кельях стенных позволялось обитать только летом, но монахи запрещений не исполняли. Для келий были устроены заходы, а чтоб дух шел от заходов и не смородил, то заходы таковые поделаны были вверху стены, и к ним из-под Кузнечных ворот шли лестницы. В стенной келье в три клети любил жить сам наместник, древний Паисий, с келейником старцем Митрофанием. Митрофаний числился изрядным бражником, но так как наместник его неизреченно любил, то Митрофанию грех его прощался, а кроме того, и все старцы более или менее не прочь тянули от хмельного. Заходы вверху стены кое-где погнили, благодать чрева в тех местах текла наружу, а потому и спасение от сморода вонючего верхотурьем мало достигалось. Начальство монастырское приказывало чистить ямы под каменным фундаментом, чистились ямы исправно, да и это не спасало.
Сколь времени истекло после хождения под собор, Сенька не помнил. Учитель Таисий хотя и пугал его своими затеями, но власть над ним имел большую. Сегодня после всенощной Таисий тихо поучал:
– Брат Семен! Мыслил я тебя вапами[40] украсить под свой лик да на мало время учредить в чине своем диаконском, и думу ту кинул… а ну как ты сбился бы в службе, то и делу конец! Старцы уяснили бы все – я утек, а тебя замест меня пытать и судить – суд их немилостив… Крест на грудь да затеи бесовы… Но вот на днях дам тебе сткляницу хмельного… ты оную посуду старцу келейному Митрофанию тайно снесешь и не таись перед ним: «Кто дал питие?» – укажи на меня. Наместник его господин Паисий древний – в ночи его крепко сон одолевает и скорбен ухом – за дверями спит. Ты пожди, когда Митрофаний дар изопьет, то повадки его ведомы: позовет свести на городню, ты сведи Митрофания до захода. У захода лавица есть, на ней он уснет. Не мешкая, тогда шибись вниз, дрова, что у Кузнечных ворот, костры – запали, бересто сухое. К иным поленницам приткни огню, пасись, чтоб кто не углядел тебя. Время изберем глухое, позднее. Когда хорошо займется, ты побежи из кельи в нижних портах, ударь в набат. Я тем временем в соборе с пядницы Иверской посрываю узорочье. Покуда монахи тушат пожог да лаву соберут, из Богородского народ двинется на пожар. С народом я утеку, и ты цел будешь. Митрофаний прост умом, ежели его построже опросить, то все примет на себя.
Вскоре глубокой ночью монастырь загорелся. Пожар залили Богородского села мужики. В патриарши палаты, они же приказ, стали звать и опрашивать всех монахов, даже скитников с ближних островков вызвали, но один из всех не явился: книгочий, справщик книг диакон Таисий. Власти монастырские заволновались. Строитель Евфимий сказал архимандриту:
– Отец Филофей, оный монах пакостный был… не единожды за Таисием я доглядывал и слушал – вредно он научал своего послушника Семена…
Архимандрит еще указал позреть казну монастырскую.
– Казна цела! – ответил отец казначей.
– Не все цело в соборе!
К голосу монахов пристал и соборный старец Илья. Справились и нашли: на иконе Иверской пядницы срезаны золотые дробницы, украдена цата жемчужная с большим камением. Архимандрит указал накрепко опросить всех старых монахов, а послушника Таисиева Сеньку, так как он молчал, велел кинуть в тюрьму. О пожаре патриарху Никону написать, об убытках от пожара все исчислить и договорить, о покраже с образа умолчать до времени… О поимке Таисия написать в Новгород воеводе князю Юрию Буйносову-Ростовскому. На извещение о пожаре монастыря иверские власти получили от патриарха письмо и чли его после службы в соборе…
«Прошлого-де… сентября… в третьем часу ночи неведомо каким обычаем, на городе у вас меж житниц и квасоваренною башнею, у Кузнечных ворот, загорелися дрова – от дров город и кельи, которые были построены в городу – шесть келий сгорели. Да городу от тех келий выгорело четырнадцать сажен. Да нового городу выгорело сорок сажен, а от поваренной-де башни по Водяные ворота город и трапезу отстояли. Монастырская-де казна цела, только у братьи и на городу в летних чуланах немного погорело, а из нижних-де келий все выношено. От кого пожар учинился, и вы сыскать не могли. Только первым увидали на городу против чулана соборного старца Ильи горят дрова, и вы расспрашивали келейников старцев с большим пристрастием и наместников-де, старец Митрофан повинился: “Как-то пожарное дело учинилось не нарочно”. И вы того иеродиакона Митрофана, заковав в железа, отдали за караул до нашего великого господина святейшего патриарха указу. Но ведомо да будет вам, старцы, что не тот виноват, кто для нужника с огнем ходит на сторону, а тот виноват, кто в городовой стене строит кельи, чего нигде не водится. С дьяконом как хотите правьте, а отныне в городовой стене везде бы вам печи порушить и впредь в городовой стене отнюдь бы жилья не было и на городню для нужника ходить не велеть! Стыдно слышать, что стены городовые вами огажены… Еще всяк служилой люд грозится на вас за лихоимство! “Уже мы сильно собрався, иверских старцев порубим и монастырь весь разорим… от насильства иверских старцев житья не стало, многими-де нашими землями завладели. Полоненники-де бегают в Иверский монастырь, иверские старцы их постригают, а иных неведомо куда отпускают, только окромя-де Литвы некуда отпускать”…»
По прочтении письма старцы иверские задумались, подумав крепко, порешили:
– Цату, срезанную с Богородицы, тайно справить – жемчуг есть запасной, а кой можно, неприметно и ободрать с меньших икон…
– Там был в середке лал доброй, такого лала не подберешь, – вставил свое слово отец казначей.
– И лал сыщем! Меньший, да сыщем.
– Митрофания слобонить надо, братие, – попросил соборный старец Илья.
– Паисий докучает по нем… надо расковать Митрофания! – указал архимандрит.
Про Сеньку никто из братии не упомянул, а Тимошку, или дьякона Таисия, умышленно не вспоминали.
Сенькина судьба становилась зловещей, как и многих других послушников, заточенных в монастырские погреба и навеки забытых. Чтоб изгладить память о пожаре и покраже соборной, старцы решили переменить игумена. Замест Филофея избрали архимандрита Дионисия, а в управление монастырем поставили в замену древнего Паисия – старца Филарета. Новые властители монастырские заспешили с постройкой храма каменного, для досмотра за рабочими потребовали из Новгорода от воеводы стрельцов. Пока они хлопотали, переделывая городню и выламывая печи из келий городовой стены, получилось извещение святейшего, «что сам он жалует в Иверский-Святозерский». Это было для старцев необычно и неожиданно. Начались приготовления – лаву из Богородского села сделали как мост на временных быках с поручнями, поручни украсили фиолетовым сукном, любимым цветом святейшего. В золотых ризах, с распущенными волосами, подобрали в певчие мальчиков, взятых из сел монастырских и приученных к согласному пению, ненавистному старообрядцам-раскольникам. Под колокольный звон всех церквей иверских патриарха ввели в его келью (на погребах) со сводами, расписанными иверскими иконниками и знаменщиками: по золоту синие и красные кресты в переплет с цветами, а в цветах – лики херувимов. Никона власти монастырские усадили на его расписное кресло в палате и поясно поклонились. Земно кланяться Никон воспрещал. Посох свой патриарх отдал келейнику диакону Ивану, тот встал с патриаршим посохом за креслом господина. Патриарх оглядел чины монастырские, сказал с некоторой насмешкой в голосе:
– А ну, отцы праведные, сказывайте о том, о чем мне писали и что писал я противу того, да пошто не вижу близ себя тех, кто верховодил делами монастыря в пожарное время?
– Паисий древен – не может с одра встать, замест его новый у нас избран старец Филарет – не обессудь, великий господин святейший патриарх!
– А-а, так… то новые власти все грехи принимают на свои головы? – проговорил Никон и подумал кратко: «Патриарши богомольцы! Упади я, на меня же кинутся, аки псы…»
– Пожог, великий государь святейший патриарх, случился глухой ночью и не опознанный от кого… Митрофания иеродиакона по слову твоему, пригрозив, освободили…
– Но куда же делся тот дьякон, книгочий и правщик книг Тимошка и где ныне тот Тимошка?
Архимандрит Дионисий выдвинул впереди себя прежнего старца Филофея:
– Сказывай, отец Филофей! Я того дела не ведаю.
– Казни меня или милуй, святейший патриарх, а Тимошка утек из монастыря в ночь пожара. – Филофей упал земно перед патриархом.
– Встань! – строго сказал Никон и продолжал: – Зачем вы, старцы иверские, неведомого бродягу и шпыня постригли и пошто возвеличили до сана диакона? Он у вас литургисал, а потом он же, учинив пожар, утек!
– По указу твоему, великий господине святейший патриарх, постригли того Тимошку! Писал ты к нам, богомольцам твоим: «послушников-де и грамотных постригать, не отказывать им в получении благодати и чина церковного». Тимошка был зело грамотен и малый вклад принес монастырю и жизни был постной, смиренной… По всему тому и послушника ему дали малоумка, но послушничонко, должно, воровал с ним заедино, ибо ни единым словом не оговорил его, а за то мы того послушничешка, стрелецкого сына, заковав, держим в порубе под караулом… – медленно и, показалось Никону, хитро глядел и говорил бывший архимандрит Филофей.