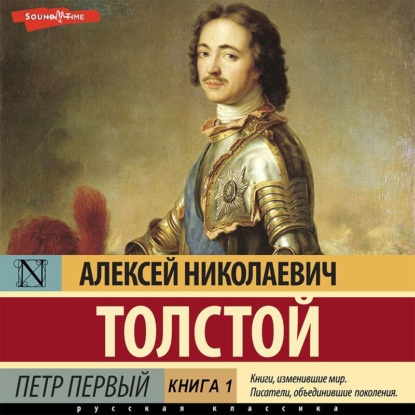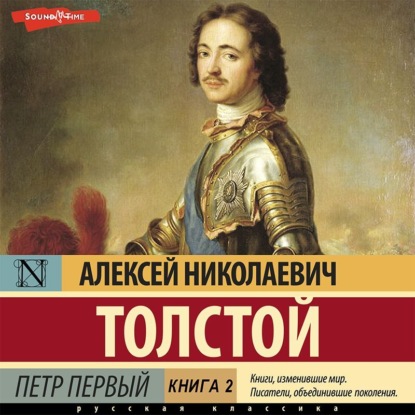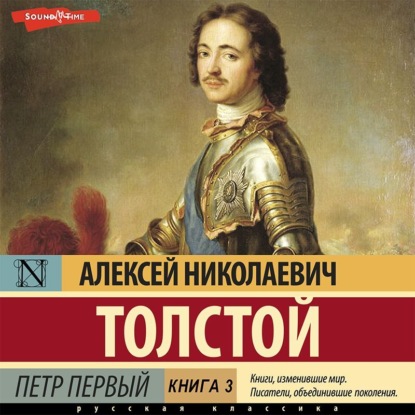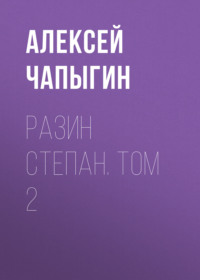Полная версия
Гулящие люди
– Держись, я вот! – крикнул Сенька, уминая за пазуху горячую птицу левой рукой, правой, готовый ударить, кинулся на бойцов, а они разбежались в стороны.
Оттого Сенька к мастеру опоздал. Знакомо было стрелецкому сыну видеть мастера, как всегда, во хмелю… Сегодня также изрядно хмельной мастер стоял по конец стола. Сенька, войдя, низко поклонился мастеру, сдирая с кудрей шапку.
– А молитва где твоя, собачий сын?! – закричал мастер.
– Вот-те замест молитвы поминок матка шлет! – Сенька, растопырив пазуху кафтана, толкнул гуся на стол.
«Го-го-го!» – загоготал гусь, топорща крылья и расправляя шею. Гусь ходил матерый, как и всякая животина во дворе Лазаря Палыча. Гусь махал крыльями, тяпая по столу желтыми лапами, – со стола повалились на пол чернильницы, буквари и песочница. От стука по полу закрякали утки. «Ко-ок-кого! Ко-о-к!» – тревожно бормотал под столом петух. Ловя крошки, по полу перебегали курицы. Оказалось, матка не напрасно навязала Сеньке гуся – сегодня был день, в который ученики дарили мастера. Сам же мастер, видимо, не знал ни о каком дне и забыл о посулах – в руке его нынче не указка, а настоящая кожаная плеть.
– Што сие есть? Поминки! Эй, Микитишна! Прими добро, нам же дай простор молитве и учебе – «от жены бо начало греху, и той все умираем!». Эй, хозяйка!
Дверь повалуши приоткрылась, мастериха, стыдясь показать волосы[22], прятала их под синий плат, громко выкрикнула:
– А ну тя, козел, с твоим достатком! Куда их столько пустишь? У меня портомоя разведена, полы тож зачну прати… – Увидав Сеньку, особенно румяного от ходьбы и боя, прибавила уже добрее: – Ты, несмышленыш, грамотой самой молодший, иди мне в помогу!
Сенька, не сводя глаз с мастера, чертя спиной и лопатками по стене, пробрался в повалушу, дверь за собой плотно запер. За дверями мастер, не понижая голоса, выкрикивал:
– Хто азы постиг, тому аз-раз! – Слышался удар плети. – А кой тут лжет по книге, хто в углу плачет – по тому плеть скачет! Теперь же обороти всяк и иди на новый бой…
Слыша шлепки плети да голос мастера, Сенька подумал: «Худой… тоже за плеть держится… меня не побить ему, только неладно ежели погонит. Тать с маткой бранить зачнут…» – и поливал пол из ведра. Мастериха, высоко подтыкав подолы, растирала грязь с водой вехтем. Сивого цвета густые волосы выпирали из плата, потом рассыпались по жирным плечам. Ей было жарко в красной рубахе с поясом по широким бедрам…
– Ах, грех какой! – Она отстегнула пояс, раскрыла ворот.
– Плещи, девка красная, шевелись! Бел, пригож и никуды не гож! – Она прижала Сеньку широким задом к дверям повалуши… – Ну же!
У Сеньки горели щеки, в голове трезвонило, и был он как пьяный. «Что она со мной?.. Тут, вот бес!» – Он не посмел или не хотел ее оттолкнуть…
– Ну, ну, грех не твой, моя душа и голова моя в ответе…
– Ой, как студно!
За дверями истошным голосом кричал мастер:
– Микитишна! Хозяйка моя, подавай сюда новца-юнца на бой и учебу!
Мастериха быстро повязала по рубахе пояс, поправила на голове плат, подобрав волосы и открыв дверь, из щели сказала:
– Тебе, козел, кой раз сказывать надо? По дому он мне опрично всех помогает. – Приперла дверь, мокрая и потная, кинулась на Сеньку: – Ой, ладной, сугревной мой…
Сеньке было стыдно, скучно и нехорошо, а она лезла целоваться. За дверью мастер топал ногами, кричал:
– От жен-бо царства распадошеся! Муж, кой дает жене своей повольку, сам повинен в погублении души ее, и огню геенны адовой предан будет за окаянство! Фу, упарился! Стадо мое, воспой хваление розге, Богу молитву и теки в домы своя.
Мастериха, задними дверями отправляя Сеньку домой, шепнула:
– Имячко твое?
– Сенька!
– Помни, ладной, с сегодня я твоя заступа. Матке не скажи чего…
– Студно мне… не скажу.
Пошла Сенькиной учебе девятая неделя, но мастериха его мало от себя отпускала, оттого он редко брался за букварь.
– К козлу моему поспеешь, – говорила она и находила Сеньке работу.
Сама же стала одеваться нарядно. Тать, чтоб Сенька не голодал, указал снести мастеру харчей. Мастериха еду сготовляла будто завсегда к празднику. Сеньку сажала за стол раньше мужа. Хмельной мастер, пересыпая насмешки руганью, поговаривал:
– Микитишна! Учинилось с тобой лихо, не выросло бы от лиха брюхо… хо, хо!
– А ты, козел, пей, ешь да молчи! Никто те указал вдовцу худому на младой жениться, век чужой гробовой доской покрыть…
– А и сука ты! Сготовляешь пряжено ество да маслено – ну, а как же, от сих мест мне, старому, хмельного не испить? Изопью! Но ужо постерегу я вас, лиходельники, да плеткой того, другого – раз, а кому и два.
Мастер пить стал больше, Сенька осмелел и едва замечал мастера, что он учитель и хозяин. За пять недель Сенька в рост пошел, усы стали пробиваться.
Пора была недосужая, Секлетее Петровне стало времени мало – с раннего утра уходила в церковь, а там на торг – послушать, что народ говорит, и не дале как вчера провожала по Ярославской дороге протопопа Казанского собора Аввакума. Сенька по разговору знал, что был тот поп, который со стрельцами дрался. Еще мать Сенькина сказывала, как видела – у Николы Гостунского по Никонову слову ободрали митрополита, митру с него сорвали да в чернецкое платье одели и следом за Аввакумом тоже в колодках на телеге направили по той же дороге. Сегодня вечером пришли тать с Петрухой не одни, а привели с собой хромого монаха, того, коего звали Анкудимом. За ужином разговоры вели против прежнего – о царе, Никоне да боярах. Петруха брат сказал татю особо:
– Отец! Скоро ли, нет, того не ведаю, нарядят меня встрету патриарху[23], едет из греков…
– С востока, чул и я, хозяева хорошие… за милостыней, спаси, сохрани, – будто у нас своих нищих мало…
– Не скоро, Петра, то дело, ведомо мне, он еще в Валахии[24], да наша ростепель пойдет, борзо не поскачешь… гати дорожные размоет, где не хошь… удержишься…
Монах сидел рядом с Сенькой, погладил его по спине, в лицо заглянул, попивая из ковша пиво, ухмыльнулся:
– Судьба, должно, младый, идти тебе со мной к Иверской… Здесь, зрю, азам не научат.
– Пошто так, отец? – спросила монаха мать.
– А уж так, жено… по монашескому обету таково мне сказывать и ведать не гоже… а только как числился я в купцах, то оное познал на подручных моих… Бывало, очи от них отвел, а они к лиходельницам-бабам шасть!
Сенька видел, как мать поглядела на него долгим взором и губами пожевала, – утерла глаза, сказала монаху:
– В Иверской монастырь неладно, отец, он никонианской, кабы иной, где по старым книгам поют обедню… и учат тоже…
– Богородице дево! Да по дороге отрочь-обитель… мимо пойдем к Нову-городу!
– Вот и остойся ты, отец, Бога деля в отрочь-обители, не порти парнишку никонианством! Грех моей душе… грех…
– Уведу, хозяюшка хлебосольная.
Тать засмеялся:
– Аль то будет чернец, а не стрелец? Хоша парень осьмнадцати годов не изошел, да в книгах приказной избы записан со всеми нами, семейно, – хватится об ем голова – худо на вороту!
Мать заступилась:
– Сам ведаешь, Лазарь Палыч, рано ему в стрельцы, поспеет намотаться.
– Рано, конешно… шесть на десять, а поручимся с Петрой, мушкет дадут, вишь, в рост малого потянуло…
– Истинно рано, жено, младому во стрельцах быть… два года, а в теи года в монастыре легонько постигнет грамоту. Здесь же он ее постигает не верхом, вишь низом.
Сеньке хотелось уйти из дому от молитвы маткиной, от грамоты и мастерихи, которая его совсем охапила, как мужа. Тать, тот думал свое и говорил упрямо:
– Эх, отец Анкудим! Как зазнался Никон, давно ли в Новгороде молебны пел, нынче же родовитых бояр в приказе стоя держит, сести не указует им.
– Не пойму я патриарха! Нас, монасей, от бояр и боярских детей не боронит, а над боярами властвует… Тут не дально время был я в старцах в Щапове селе досмотреть патриарши борти, пчелы и мед… Там меня гонял пьяной сын боярской, чуть саблей не посек, больную ногу мне извредил, а Никону патриарху я челобитье подал – меня же и обвинили: «Сам-де с озорником бражничал!»
– Сломают ужо Никону рога бояре – вот мое слово.
– Сломают, Лазарь Палыч! В памятях того не держу, чтоб боярин кому обиду спущал…
Скоро все разошлись спать. Отец с Петрухой вверх, монах уклался внизу. Сенька тоже хотел идти в повалушу. Мать заставила с ней молиться дольше, чем всегда, а потом со свечой в руке подступила к Сеньке:
– Сдень рубаху!
Сенька покорно содрал с плеч рубаху.
– Скидай портки!
– Студно мне, мамо!
– Чай я тебе мать – не чужая, скидай.
Сенька неохотно обнажил себя. Мать оглядела его и плюнула, крестясь:
– Оболокись! Сказывай, блудом грешишь? С мастерихой?
– Мне студно, да она виснет…
– То и есть! Поди спать в подклет, буде на перине, поспи на голом полу.
– Там крысы, мамо, боюсь!
– Женок бесстыжих не боишься, твари, гнуса спужался, – подь!
Сенька покорился, пошел спать в подклет. Туда ставили кринки с молоком да на стене вешали всякую рухлядь.
Мать старательно заперла дверь подклета за Сенькой, положила в крюки три железных поперечных замета и замком замкнула.
Сенька боялся крыс, ему казалось, что сонному они объедят нос и уши. Он решил не спать, сел на холодный пол, прислонясь лопатками спины к стене. Спать ему давно хотелось, брала дремота. В дреме он помышлял о своем бумажнике[25] и подушке. Крысы, как стихло все, завозились близко. Сенька вскочил, крысы исчезли. Когда вскочил Сенька, то уткнулся в дверь, он плечом налег на нее, дверь крякнула.
– Ага! – Он навалился грудью.
Она еще как будто подалась, и снаружи ее задребезжали заметы. Тогда Сенька ударил по двери обоими не по годам тяжелыми кулаками, а дверь трещала, звенела, но не пускала его. Крысы смело шныряли у Сеньки под ногами. Он в ужасе присел и фыркнул:
– Ффы-шт, беси!
Крысы отбежали, но возились в дальнем углу.
– Да, черт же ты, матка!
Сенька ударил еще раз по двери кулаками, послушал – никто не шел выпустить его. Тогда он изо всей силы навалился на дверь и слышал: затрещали дубовые стойки, еще налег покрепче – ага! – стало заметно, что крючья и пробои подались из гнезд, образовалась щель, но рука не пролезала, тогда он снова навалился на дверь до боли в грудях и просунул руку наружу.
– Ага!
Нащупал замок, железо не гнулось, он понатужился, сломал у замка дужку – замок выдернул, бросил, а погодя немного, ощупав, отодвинул заметы, иные снял с крючьев и, распахнув дверь, вышел.
– Черт! Спать охота… – И тут же недалеко от подклета кинулся на сенник, положенный для казачихи-девки[26] на двух кованых сундуках, заснул, но рано утром слышал шаги и голос матери Секлетеи Петровны:
– Да, Лазарь! Испортит вконец лиходельница-мастериха парня!
Тать, видимо, торопился в караул:
– Эх, ты, Петровна! Мала охота спущать парня в монастырь… Не в попы идти, станет стрельцом, азам обыкнет…
– А нет уж, Лазарь Палыч! Бабник стал, того дозналась, а там и бражник будет, то близко стоит.
– Поздаю я с твоей говорей… пождала бы моей неделанной недели[27], тогда я отвез бы их, хоть за монастырь Троице-Сергия… не близок путь пеше идти… Ну, коли стоишь на своем, то гостю Анкудиму накажи определить куда ладнее и доле осьмнадцати лет чтоб не держали парня… Подумаем, что будет…
– То и будет, Лазарь! Услать парня надо – беда на вороту. Заперли в подклет, а он, глянь-ко, двери выломал.
– Будет сила в малом! В меня уродился. – Тать ушел.
Матка без докуки за то, что ушел из подклета, разбудила Сеньку.
– Здынься, сынок! Умойся, помолись.
Сенька послушался, он уж давно не спал. Когда, умытый, вышел, монах у стола допивал остатки пива в жбане. Видно, матка до его прихода говорила с монахом.
– Так ты его, отец, не покинь, доведешь – перво грамоте чтоб обучили, а иное делал бы, что на потребу обители.
– Перво дело – обучим… это уж, спаси, спасе, завсегда так.
– По старинным обителям, отче, много поди праведников обитает?
– Есть и такие, мати, не столь праведные, но бессребреники и постники великие есть!
Сенька спросил:
– А ты, старче, скажи – монахи бражники в монастырях есть?
– Сам узришь, спаси, сохрани, будешь в обители – узришь. Тебе сие пошто?
– Да вишь – на Варварском крестце, когда я к мастеру ходил учебы для, сидели монахи и завсе хмельные… иные дрались тамо.
– Да замолчи ты! – вскинулась мать. – Вот мне, за грехи, видно, уродилось детище.
– Зело пытливой ум! – сказал монах, мокрая его борода зашевелилась, и, растопыривая грязные персты, он продолжал: – Жено богобойная! Изрек младый истину… Сам великий государь писал к строителям и игумнам, а паче митрополитам, «что многие монахи, сидя на крестцах улиц, побираютца, меняют с себя чернецкое рухло на озям мужичий, едят скоромное, не разбирая дён, и по кабакам бражничают». Человек, жено, зело грешен, и ризы монашеские не укрывают греха, а споспешествуют ему… Един Бог без греха… един, и силы бесплотные…
– Ну вот, отец Анкудим! Я малому в путь собрала суму, в суме той портки, рубаха и убрусец лик опрати… веду его чисто, и чистым он придет к обители. Да тебе вот рупь серебряной – Иисусу на свечку и иным угодникам о здравии нашем. Теперь же благослови, отче!
Монах покрестил матку двуперстно. Она Сеньку поцеловала и тоже покрестила, после креста сунула Сеньке за пазуху кису малую с деньгами. Когда уходили, мать с крыльца кричала Анкудиму:
– Будешь на Москве, отец, не ходи на подворье, там построй идет, гости к нам и о малом моем весть дай-й!
– Чую, жено! Да мы еще не борзо оставим град сей… – проворчал монах.
Вместо Дмитровской дороги монах пошел на Серпуховскую, а там на Коломенскую, потом стали они колесить без дорог, спали на постоялых да кое-где. Сеньке надоело, он спросил Анкудима:
– Старче, чего ты ищешь?
– Отрок! Ищу я спасения в забвении, не все, вишь, кабаки монашескому чину приличествуют.
– Так вот те кабак!
– Непристойный он, то царев кабак!
– Зри дале – може, вон тот?
– Не наш… Были, вишь, в одном месте да перешли… а по тем путям наши кабаки, должно, дошли, и вывели кабацкие головы[28], вот эво, то будто и наш! – Анкудим повернул круто с дороги к старинному дому, вросшему в землю. – Этот, спаси, спасе, кажется, с приметой… – разговаривая, подошел к дому, постучал в ставень закрытого окна, воззвал громко: «Сыне божий, помилуй нас!»
– Идут – наш, не идут – не наш!
Сенька слышал далекие шаги, потом заскрипел замок в калитке ворот, над которыми ютилась облезлая, черная, с пестрым ликом икона.
– Аминь! Шествуй, отче, да пошто не один?
– Отрок сей – мой спутник к обители.
Они вошли во двор, потом спустились в подвал по гнилой лестнице.
– Эки хоромы древни, спаси тя, выбрал, Миколай! В прежнем месте было краше, – ворчал монах, волоча хромую ногу. – В кои веки на козле палач пересек кнутом жилу, маюсь… да еще неладной боярской сын погонял, извредил ступь, ты не спешно иди, мне тут незнакомо…
– Ништо, под ногой плотно! Из старого места целовальники выжили – бежал… да и то, в древних тепла боле, а свет тому пошто, хто зрит свет истинный?
– Праведник ты, спаси, спасе…
Узким, вонючим от ближней ямы захода[29] коридором с тусклым светом фонаря прошли в сени, из сеней, нагибаясь в осевшей двери, в избу с лавками и русской курной печью. В обширной избе с высоким, черным от курной печи потолком для хозяев прируб, там они вино курили, а под полом в ямах хоронили брагу и мед – мед держали на случай, если объявится такой питух, кто водки или браги пить не станет, тогда, как на кружечном дворе, отколупывали кусок меду, клали в ендову и разводили водкой. При огне сальных огарков, еще плошки глиняной с жиром, дававшей вонючий свет, за длинным столом Сенька увидел троих питухов да двух женок. Одна – молодая, похожая на мастериху, румяная, другая – с желтым лицом и ртом поджатым, в морщинах.
Анкудим сел на скамью к питухам.
– Благословенна трапеза сия – мир вам!
– Кто ты, не зрю, да будь гостем! – прохрипел один питух, силясь, руками упершись в стол, поднять согнутые плечи и голову.
– Вкушаем – то мирны бываем! – сказал другой, плешатый, питух.
Третий, сутуловатый, широкоплечий, похожий ростом и туловом на него, Сеньку, молчал, только тряхнул темно-русыми кудрями. Анкудим как уселся, так и сказал хозяину громко:
– А ну, спаси, спасе, лейте нам в чары хмельного! Да чуй, хозяин хлебосольный, лей мед в одну чару, а водку в другу – мой отрок не вкушает горького…
– Подсластим, обыкнет! – мрачным голосом изрекла худая женка.
Молодая встала со скамьи, шатко подошла к Сеньке. Он, ошеломленный непривычным видом притона, стоял и не садился. Кабацкая женка накинула ему на шею руку, пахнущую чесноком и водкой, вползла на скамью рядом с монахом, хотела Сеньку посадить силой, но он мотнул головой, и вся скамья с питухами зашаталась.
– Тпрр-у! Экой конь… садись, молодший… базенькой.
Сенька, подвинув ее, сел рядом с Анкудимом. Молодая женка хмельным голосом затянула:
Подарю тебе сережки зеньчужныеДа иные, золотые с перекрутинкою.Другая мрачным голосом подхватила:
Дашка с парнем соглашалась,Ночевать в гостях осталась!Сенька все еще не оправился, притихнув, слушал песню. Молодая задорнее прежнего выпевала:
Ей немного тут спалоси,Много виделоси!..Опять с хриплым горловым присвистом пристала пожилая:
Милый с горенки во горенку похаживает,Парень к Дашиной кроватке приворачивает…Молодая, обхватив талию Сеньки, стараясь покрыть говор кругом, выкрикивала:
Шелковое одеялышко в ногах стоптал.Рубашонку мелкотравчату в клубок скатал…– Эй, женки! Паси, сохрани – не надо похабного.
– А ты, чернечек, чуй дальше!
Тонка жердочка гнетца, не ломитца,Со милым дружком живетца, не стошнится!Дальше Сенька не слушал, подали на стол разведенный водкой мед. Из кувшина Анкудим налил две оловянные чашки.
– А ну, младый! Паси Богородице, хотел я горького, дали сладкого, приникни – горького в миру тьмы тем…
Сенька отодвинул свою чашку, его дома берегли от пьянства:
– Не обык!
Плешатый питух через стол крикнул:
– Ой старячище-каличище! Младый стал молодшим, аль не зришь? Перво дай ему, чтоб большим быть, испить табаку! – Обратясь к питуху с темными кудрями, прибавил осклабясь: – Эй, Тимошка, царев сын![30] Дай им рог.
Молчаливый питух сдвинул брови, ответил тихо:
– Чую и ведаю, плешатый бес, тебе раньше меня висеть на дыбе. «Слова государева» не долго ждать…
– Умолкаю – дай им рог!
Рог с табаком Тимошка разжег трутом, дал Анкудиму. Сенька видал, как тайно от матки Петруха с татем пили табак[31], ему давно хотелось того же.
– Може, спаси, сохрани, такое занятно? Я так не бажу оного и меду изопью… Кису, кою мать сунула тебе в дорогу, дай мне – за твой постой с хозяевами сочтемся, отдача – в монастыре, не сгинет за Анкудимом.
Сенька отдал монаху кису с деньгами, рог с табаком взял, сунул в рот. Рог бычий – на верхнем конце его дымилась трубка, в середине рога, когда Сенька тянул дым в себя, хлюпала вода. Он потянул раз и два… подождал и еще потянул столько же, закашлялся и сплюнул густую слюну:
– Горько!
– Паси, спасе! Да испей меду.
Сенька выпил чашку меду и снова, уже охотнее, начал тянуть табак. Анкудим налил ему еще меду.
– Житие наше слаще андельского, да, вишь, краток век человечий…
После тошнотворно горького табаку Сенька без просьбы охотно выпил свою чашку меду, а когда Анкудим наполнил чашку, он и третью выпил. После выпитого меду стрелецкий сын почувствовал в груди что-то большое, смелое и драчливое. Ему хотелось, чтоб женки играли песни, тогда и он пристанет, а если помешают им играть, так Сенька похватает из-за стола питухов и будет их бить головами в стену. Чтоб ему не сделать чего худого, Сенька съежился, подтянул под скамью ноги и крепко зажал рог с табаком в широкой ладони.
– Питух не мне – Анкудиму дал рог, пущай-ко отымет!
Но кудрявый питух не подходил к Сеньке и рог обратно не просил. Пьяная женка, рядом сидя, не унималась, тянула к себе и что-то не то наговаривала, не то напевала.
– Чего она виснет? А ну! – Сенька встал.
Когда разогнул ноги, всунутые под скамью, то монах и женка свалились со скамьи, а кудреватый питух пересел на лавку. Он сказал, Сенька слышал:
– И молод, да ядрен!
Стрелецкий сын пошел в избу. На широких лавках лежали грязные бумажники, Сенька подошел, лег на лавку, уронив длинную руку с лавки на пол, не желая, разбил рог, черепки его тут же кинул, а липкое с ладони растер на груди.
– Эх, табак уж не можно пить?! – Он это громко сказал и плюнул.
Женки, обе пьяно ворочаясь над ним, тянули на пол. На полу к ночи раскладывали в ряд несколько бумажников. Как от мух, Сенька отмахнулся от женок.
– Ой, мерин!
Молодая уговаривала его:
– Базенький! Для леготы ляжь, ляжь для леготы… скатишься с лавки…
Он перелег. Холодный бумажник на полу жег его, и чувствовал Сенька, как рядом подвалилась молодая женка, обняла, руки ее стали по нем шарить.
– Бес! Задушу – уйди!
Голос у него был не свой, женка отодвинулась. Сенька думал одно и то же: «Анкудим – сатана! Замест монастыря эво куда утянул! Маткин рупь на свечи – пропил, кису из пазухи взял, деньги тож… куда дел?» Сеньку не зашибло беспамятством, ему показалось только, что он слышит каждое слово и каждый шорох. Теперь Сенька прислушивался, зажмуря глаза, о чем говорят. Анкудим спорил с питухами:
– Патриарх Никон все чести для своей деет, паси, спасе, а ежели кой монастырь возлюбит, то и украшает… нече лихо сказать…
– Чужим красит…
– Спуста молвишь – чужим… Все, что на Руси, – свое, не чужое, спаси, сохрани…
– Да ты, чул я, чернец из Иверского?
– Иверского Богородицкого Святозерского монастыря… чо те?
– Мне зор застишь – хвалишь?
– Правду реку – спаси, спасе…
– Откеле Никон икону ту Иверскую уволок – с Афона горы?[32]
– А и добро, что перевез! Списали икону, перевезли к нам… изукрасили лалами…
– А еще… пошто мощи митрополита Филиппа[33] потревожил? Уволок из Зосимовой обители.
– Не место ему в Соловках… Святитель был он бояр Колычевых, на родину в Москву перевезли.
– Ладны вы, старцы Иверского! Многие вотчины загребли под себя – мужик от вас волком воет…
– Спаси, спасе, мужик везде воет, та и есте доля мужицкая… Мы зато всякого пригреваем не пытаючи… грамотеев ежели, так выше всего превозносим…
«Ишь, сатана, бес», – подумал Сенька. Питух не унимался.
– Чул, чул – разбойников укрываете!
– Спаси, сохрани – разбойник человеком был в миру, а нынче, я чай, на соляных варницах робит в Русе.
Сенька услыхал голос питуха Тимошки, кой дал ему рог с табаком:
– Впрям, чернец, у вас всем дают жилье?
– Дают и не пытают, хто таков, ежели работной, а пуще коли грамотной… Воевода не вяжется к нам… у нас свои суды-порядки, стрельцы свои и дети боярские тож.
– А патриарх бывает почасту?..
– Как же, как же, книги в монастыре печатают – назрит сам.
– Так, а ежели меня бы с собой взяли? Я грамотной…
– Нет, уж ты иди один… ждать долго, спаси, сохрани, мы еще тут побродим…
– Та-ак…
– А вот как, спаси, плоть немощна, подтекает… надо убрести в заход – э-э-к, огруз!
Сенька слышал, как спороватый питух остановил Анкудима.
– Ты изъясни, чернец, пошто Никон назрит свое – чужое зорит?
– Про што пытаешь?
– Я о святынях!
Анкудим, было поднявшийся, снова сел.
– Не нам сие уразуметь, спаси, сохрани… Да зорит ли? Поелику украшает.
Сенька, мотнувшись, встал, пошел в сени, нашарил дверь в коридор, ощупывая ногами землю, прошел к яме захода. Когда миновала надобность, уходя, сломал перед ямой жерди.
– Забредет, сатана… маткин рупь будет помнить!
Монах шел по сеням навстрет, обняв, узнал Сеньку, погладил его и свернул от слабого света фонаря во тьму к яме. Сенька вернулся. Лег, хотел слушать, а стал дремать. Сквозь дрему слышал, как в прирубе всполошились хозяева, кто-то пришел за ними, они, хлопая дверьми, ушли, потом оба вернулись. Хозяйка охала, хозяин матюгался. В избе притащенное ими воняло и булькало… Сеньке хотелось поглядеть, но глаза смыкались… Он слышал еще голос женки:
– Ой, хозяин! Кто это у ямы жерди изломил? Чуть не утоп чернец Анкудим…
– Должно, погнили жердины, надо чаще менять.
После этого слышанного Сенька заснул каменным сном, ночью с груди он отталкивал тяжелое, и губы жгло, как огнем. Снилась ему мастериха. Проснулся – в избе темно, лишь одно выдвижное оконце светит – отодвинули ставень. В избу дуло утренним. Из избы уходили питейные вони. Близко где-то московским звоном звонили к ранней, да у дороги на Дмитров за окнами он слышал голоса нищих: «Ради Господа и великого государя милостыньку, кре-е-щеные!» Светало больше. Питухов, кроме Анкудима и женок, в избе не было. Молодая женка сидела на лавке у его изголовья, балуя ногами, закидывала ногу за ногу – глядела на него. Сенька отвернулся. Старая ела у стола и не успела дожевать, как в избу заскочил солдат[34] в сермяжной епанче, без запояски. Молча кинулся на старую женку, сволок ее за волосья, опрокинув скамью, распластал на полу и начал бабу пинать, она взвыла, будто волчица, заляскала зубами.