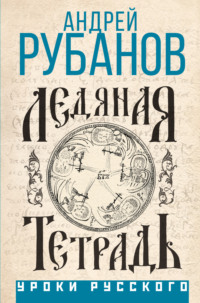Полная версия
Жёстко и угрюмо
За мной прислали незнакомого мне молодого сержанта. Новое камуфло туго обтягивало его квадратные плечи, весь он был тугой и сильный, ещё не провонявший, ещё румяный, и ему, может быть, даже нравилась его работа.
Долго вели – вверх, вниз, через решётки и тяжёлые двери, по коридорам с пыльными ковровыми дорожками.
…Стол кума был знаменит на весь централ. Под стеклом на этом столе лежали фотографии самых активных и опасных негодяев нашей тюрьмы. Воры, авторитеты, убийцы – все оголтелые и отпетые, конченые и отмороженные смотрели из-под локтей моего собеседника. Было множество групповых снимков: полуголые, татуированные сидят тесно за чифиром или даже за водкой на фоне огромного растянутого полотенца или простыни с каким-нибудь эффектным принтом (обычно это тигриная морда). Изучая на досуге лица и комбинации лиц, кум понимал, кто чей «братан» или «близкий».
Оперативники следственной тюрьмы не бегают с ключами по коридорам и не водят грязные вшивые толпы в еженедельную баню. Оперативники – их называли «кумовьями» ещё при Сталине – изучают уголовников, как Миклухо-Маклай изучал папуасов. Где берут алкоголь, стафф, наличные? Не замышляют ли побега? Не конфликтуют ли до градуса смертельной вражды?
Два месяца назад у нас на этаже убили арестанта. Не в моей хате – в соседней. Говорят, четверо взяли несчастного за руки и за ноги, подбросили вверх и с размаха грянули об кафельный пол, и так несколько раз, пока не лопнул череп. Говорят, кум был в ярости. Камеру, где произошло убийство, расселили, каждого допросили, многих избили, отобрали весь запрет, включая самый невинный: иголки даже.
– Есть проблема, – сказал я куму.
– Излагай, – разрешил он.
– У нас сидит такой Заза. Это имя его. Фамилии не знаю. Но Заза у нас один…
– Я понял, понял, – сказал кум. – Что дальше?
– Уберите его из хаты. Или мы его сломаем.
Кум посмотрел на меня без особого любопытства – так, запомнил на всякий случай – и проехался локтями по бледным лицам подведомственных негодяев. Негодяи скалили коричневые зубы: нам всё нипочём!
– «Вы» – это кто? – спросил кум.
– Сам знаешь.
– Это всё?
Я кивнул. Меня вывели.
Врач дал мне несколько пачек бинта и банку заживляющей мази, хотя я его не просил. Мазь нужна летом, когда все гниют, когда вши, а зимой и весной арестанта только чесотка мучает.
Утром нового дня выводной надзиратель через отверстый люк кормушки выкрикнул четырёхсложную фамилию Зазы. Тот не поверил, пошёл переспрашивать, вернулся расстроенный.
– С вещами заказали!
– Странно, – сказал Зазе тот, кто сидел за контрабанду палладия. – Давай денег дадим. Выкупим тебя.
– Благодарю, – гордо ответил Заза. – Обойдусь.
И пошёл искать свои ботинки, но не нашёл, и в неизвестное будущее отправился в шортах и тапочках.
По слухам, он попал на четвёртый этаж, в сто тридцать пятую хату. Его ботинки мы потом обнаружили и попытались переслать владельцу по «дороге» – но каблуки не пролезли сквозь решётку.
Я его встретил в автозаке через месяц, в разгар весны.
В автозаке кого только не встретишь. Каждое утро из тюрьмы выезжают около тысячи мрачных и провонявших никотином злодеев. В суды, в прокуратуры, в следственные управления и следственные комитеты, в казённые дома разнообразных функций и названий. Вечером всех возвращают назад. Большинство видят друг друга в первый и последний раз.
Машину качало, со всех сторон в меня упирались локти и плечи соседей, в отсек на восемь мест забили двадцать тел, некоторые сидели на коленях у других, а двое висели под углом пятьдесят градусов, упираясь руками, ногами и твердокаменными арестантскими задницами.
В двух местах боковая стенка кузова имела дырки, каждая не более двух миллиметров, оттуда проникало забортное свечение свободы, и прижатый ко мне человек, удобно и чисто одетый, отодвинул соседей и приник глазом к отверстию. Оранжевая спица света воткнулась в его тёмный зрачок.
– Солнце! – вскричал он с угрюмым восторгом и повернулся ко всем.
Но его радость никто не разделил.
– Как ты, Заза? – спросил я.
Он узнал меня. Дёрнул щекой и ответил с презрением:
– Нормально. А ты?
– Отлично.
– Сидишь там же?
Я кивнул.
Заза помолчал несколько мгновений и сообщил:
– Имей в виду… Те вопросы, что я поднимал в вашей хате… Я их ещё подниму.
На угрозы положено реагировать добрейшей, ласковейшей улыбкой: вэлкам, братан!
– В любое время, – сказал я. – В любое время, Заза.
Он выглядел отлично. Перемещение из одной камеры в другую явно пошло ему на пользу. Видимо, прибился к своим. Научился жить. Еду, одежду, кайф – всё раздобыл. В карты выиграл или выпросил «по-братски» у какого-нибудь двадцатилетнего дурака, пойманного за кражу автомагнитолы.
В разных хатах разные люди живут; в нашей камере у Зазы не получилось, но на новом месте бог воров явил свою милость к потрошителю дамских сумочек.
Он улыбнулся ответно. Ловкий, уверенный, собранный, жующий жвачку. Со стороны мы, наверное, были похожи на старых товарищей.
Больше мы с ним не говорили, хотя были прижаты грудь в грудь.
Его вывели через час, в Савёловском суде.
Когда за его спиной лязгнул дверной замок и мы, оставшиеся внутри, опять оказались в полумраке, кто-то дёрнул меня за штанину и произнёс:
– Слышь, друг. Ты зря об него тёрся. Он на первом этаже сидит, в спидовой хате.
Через шесть лет я его встретил в Москве, у входа в метро «Крестьянская застава», в редкой толпе в девять часов вечера. Он подошёл ко мне и текучим движением руки – локоть прижат – вынул из кармана чёрных штанов дорогой мобильный телефон.
– Не нужен? – спросил он. – Вообще новый! С документами.
Я коротко махнул рукой: нет.
Заза меня не узнал.
Он был потрёпан и сед, однако на драйве. Глаза слегка ввалились, но глядели неглупо и с вызовом.
Он почти не изменился: героиновые наркоманы с годами частично мумифицируются. Может быть, он даже издавал шуршание при ходьбе, но в общем остался самим собой, и до старости его было далеко.
Умирать от вируса иммунодефицита он явно не собирался.
Я его пожалел. Не знаю, почему. Просто стало очень жаль человека – и всё. Не до слёз жаль, по таким не плачут, но всё же очень жаль.
Я спешил, говорить нам было не о чем, приступ жалости длился от силы полминуты. Не вступив в разговор и никак себя не выдав, я отвернулся и пошёл своей дорогой.
Последняя мысль была не новая: «бог с ним!».
Малой кровью
Писатель выехал за час до полуночи.
Обычно ездил в спальном вагоне: любил комфорт и не любил попутчиков. В более сытые и денежные времена даже мог взять двухместное купе целиком. Ради уединения.
Лучший его друг однажды сказал: «Не путай уединение с одиночеством».
Сейчас для него настали времена не слишком сытые. Не бедствовал, конечно; однако доплачивать за уединение уже не хотел. Тридцать девять; в таком возрасте уже не хочется доплачивать миру; уже пора наладить так, чтобы мир доплачивал тебе.
Да и спальные вагоны стали хуже. Пыль, скрип дешёвого пластика, серые простыни.
В прошлый раз он ехал с сыном – хотел показать мальчишке весенний Петербург. Май случился холодный, отопление в вагоне не работало (проводница небрежно извинилась: «сломано; чиним»). Писатель замёрз, и с тех пор дал себе слово больше не ездить в спальных вагонах. Холод, грязь – бог с ним, в тюрьме или казарме бывало и хуже, но там это входило в правила игры, а здесь оставалось только копить раздражение. Поезд, курсирующий меж двух столиц огромной страны и состоящий из вагонов «повышенной комфортности», в холодные ночи надо отапливать, не так ли?
В этот раз взял обычное купе. Бросил на полку тощий рюкзак, вышел в проход, дождался соседей: сначала – небритого дядьку с обычным лицом обычного человека, потом девушку с лёгкой улыбкой и тяжёлой задницей, грамотно приподнятой каблуками – слишком высокими. «В дорогу могла бы надеть более простую и удобную обувь», – с неодобрением подумал он и пошёл в ресторан.
Бестолковых, неумных женщин не любил с ранней молодости. Однако почему-то именно бестолковые нравились ему более других. В бестолковости тоже есть своя энергетика и свой шарм. Однажды он выбрал из всех бестолковых наименее бестолковую и женился.
В ресторане ему сразу стало хорошо. Выпил водки, раскрыл компьютер и стал работать. Водка была ни при чём, ему нравилась работа, а особенно нравилась дорога. Перемещение в пространстве возбуждало. Он ценил чувство оторванности. Чтобы описать нечто, надо от него оторваться.
Он писал два часа, потом устал и выпил ещё – не от усталости, а чтобы продлить удовольствие. Чуть позже пришла девушка, с той же улыбкой и той же задницей, на тех же каблуках; села напротив. Писатель – опытный пассажир ночных поездов – пришёл в ресторан раньше прочих, и теперь один занимал четырёхместный стол; к нему, разложившему меж кофейных чашек умную электронную машину, за весь вечер не подсел ни один проголодавшийся. Все заявлялись компаниями либо парами и находили свободные места, не потревожив писателя; или, что вероятнее, принимали его за местного ресторанного менеджера, подсчитывающего дебет и кредит, поскольку стол его был крайним, рядом с кухней; так или иначе, писатель не удивился соседству незнакомки. Довольно рискованно, имея длинные каблуки, сидеть одной, в два часа ночи, в вагоне-ресторане, где в одном углу дремлют – мокрые лбы, галстуки набок – четверо перебравших коммивояжёров, а в другом пьют пиво двое широких, коротко стриженных альфа-самцов, общей массой в триста килограммов. Если бы писатель был девушкой на каблуках, он тоже подсел бы к такому, как он. Невысокому, почти трезвому, слева компьютер, справа записная книжка.
Итак, она ехала к любовнику. Она свободна, он женат, она в одном городе, он в другом, разводиться не хочет (из-за детей, спросил писатель; собеседница кивнула), он оплачивает ей еженедельные путешествия и гостиницу (щедрый, сказал писатель; собеседница пожала плечами).
Писатель представился писателем и добавил, что названия его книг вряд ли что-то ей скажут.
Она слегка оживилась.
Он угостил её алкоголем.
Чувствую себя дурой, призналась она, расслабившись после третьей рюмки. Отношения не имеют перспективы. Неохота терять время. Он сильно старше, я его не люблю. Но он хороший. Приличный, сильный и умный. Высокопоставленный, уточнила она, проглатывая гласные. Не знаю, что делать.
Выпейте ещё, сказал он, с удовольствием удерживаясь от того, чтобы предложить перейти на «ты». Нет, мне хватит, возразила она. Хочу, но не буду.
– Что делать? – переспросил он. – Очень просто. Расслабиться. Вы молоды – наслаждайтесь. Хотите спать с мужчиной – спите. Хотите выпить ещё – выпейте. Радуйтесь. Вам хорошо сейчас?
– Да, – ответила она, серьёзно подумав; её хмельная серьёзность, устремлённый в никуда взгляд основательно затуманенных глаз развеселили писателя.
– Вот и славно, – сказал он. – Удерживайте это состояние. Получайте удовольствие. Мне сорок лет. Женился в двадцать. Бросил учиться, пошёл работать. С тех пор не прекращаю. Всё время думал, как вы… Переживал о перспективах… Боялся потерять время… К чёрту это. Живите здесь и сейчас, ничего не бойтесь. Молодость дана, чтобы радоваться.
– Да, – сказала она, и посмотрела благодарно. – Велите принести ещё водки.
Потом он вышел в тамбур, выкурил сигарету. Когда вернулся, над его собеседницей нависал один из широких альфа-самцов: видимо, делал хамское предложение. Второй ждал за своим столом, сосал бледную креветку.
Писатель грустно подумал, что шансов нет. Если, допустим, разбить бутылку и воткнуть в спину или плечо… В любом случае, победить широкоплечего тяжеловеса можно только внезапностью и коварством. В затяжной схватке шансов нет, совсем. Девушка, однако, вежливо и коротко отвергла домогательства, и альфа-сладострастник отвалил, прежде чем писатель подошёл на расстояние, достаточное для удара.
Наверное, нам пора, сказала она.
Он кивнул, попросил счёт; когда прошли мимо альфа-самцов, писатель отвернулся, а спустя несколько мгновений подумал, что нельзя было просто так мимо проходить, и ощутил первобытную досаду.
Девушку он не хотел, а хотела ли девушка его – ему было неинтересно. Воткнуть что-нибудь острое в плечо альфа-гиганта следовало не ради девушки, а ради себя. Писатель вырос в маленьком фабричном городе и с ранней юности знал, что сидящая за чужим столом девушка – это чужая девушка. Неважно, кто она, с кем пришла и с кем уйдёт. Важно, кто ей наливает в данный момент. Эту простую мысль надо было донести до альфа-болванов, желательно при помощи удара по голове. Но писатель не ударил, даже взгляда не послал. Испугался. Благоразумно решил не искать приключений.
У благоразумия отвратительное послевкусие, уныло подумал он сейчас; влез на верхнюю полку и отвернулся к стене. Новая знакомая, вернувшись из туалета, решила продолжить разговор, проснувшийся сосед вяло вступил в беседу, речь пошла о любви; писатель с облечением подумал, что девчонка просто хочет поболтать, и заснул.
Отель находился в пяти минутах пешком от вокзала. Писатель уже несколько раз останавливался в этом отеле, и, когда жена попросила рекомендовать приличное место – он не только назвал адрес, но и сам позвонил, забронировал номер. Тот, в котором обычно жил сам. Напомнил, что он постоянный клиент, – ему тут же всё сделали. Мини-отель принадлежал, судя по всему, толковым людям, персонал был доброжелателен и ценил постоянных клиентов. А писатель ценил тех, кто его ценит, пусть не в качестве писателя, но хотя бы в качестве постоянного клиента.
Частная гостиница на пять номеров, бывшая коммунальная квартира в обычном жилом доме, – нет, не в обычном: в настоящем, классическом питерском доме, с чередой немилосердно закатанных в асфальт дворов-колодцев, соединённых сумрачными арками. Железные крыши, гулкие лестницы, – специальная экзотика для тех, кто понимает. За углом – сразу три местных кафе, каждое со своим колоритом, в одном алкоголь и байкеры в садо-мазо-коже, в другом дамы с пирожными, в третьем просто можно хорошо поесть. В пятидесяти шагах – Невский проспект.
Сырость сразу ухватила за лицо и руки. Холодно, влажно; писатель продрог ещё до того, как дошёл до цели.
Долго смотрел на тёмные, закрытые шторами окна номера. Восемь утра. Либо она уже убежала по своим делам – и это плохо; либо она вот-вот проснётся и зажжёт свет, и это хорошо; тогда он сможет увидеть силуэты. Жену угадает сразу. Если в номере будет кто-то второй – писатель попробует понять, мужчина это или женщина. Если по каким-то признакам сразу станет ясно, что второй постоялец – мужчина, писатель пойдёт назад, на вокзал, и уедет первым же поездом.
Например, второй обитатель номера отодвинет штору, откроет окно и закурит.
Хотя жена терпеть не может табачного дыма и вряд ли разрешит ему курить.
Или она любит его? И всё позволяет?
Лучший его друг однажды сказал: «Пусть они любят нас курящими, пьющими и нищими».
Когда окна зажглись, писатель слегка запаниковал, но быстро успокоился.
В молодости он, бывало, практиковал слежку. Его нанимали для поиска тех, кто задолжал деньги. Как ни странно, бизнес по выколачиванию долгов считался в те годы скучным и малоприбыльным; умные люди, начав с лихих дел, при первой возможности переключались на нечто более интересное, вроде торговли конфетами или штанами. Писатель поступил точно так же и впоследствии вспоминал о своих уличных подвигах безо всякого удовольствия. Для слежки нужен человек с непримечательной внешностью, а писатель был тощий, злой, сухой малый; когда пришло время сесть в тюрьму, потерпевшие граждане легко опознали писателя среди множества статистов.
Окна зажглись, и он быстро понял, что переоценил свой опыт. За шторами двигались бесформенные тени; он смотрел почти час, но понял только, что в номере двое.
Она говорила, что поедет целая делегация, четверо. Писатель не стал уточнять подробности.
Потом окна погасли, и спустя несколько минут жена вышла. С ней – две женщины и мужчина. Подбадривая друг друга, пошли в сторону Невского. Писатель стоял слишком далеко, чтобы составить мнение о внешности мужчины. Во всяком случае, тот был молод, неплохо одет, шагал широко, смело и двигался впереди всех; три дамы – следом.
Пешком пошли, подумал писатель, даже такси не заказали; экономят.
Он негромко выругался и нырнул в ближайшее кафе.
Жена его любила шумные компании. Закончив дела, она не пошла бы в отель, коротать длинный командировочный вечер. Зачем отель, если вокруг – большой красивый город, со всеми его театрами и ресторанами? Писатель выпил два кофе и три коньяка. Надо было ждать.
Почему-то ему казалось, что он заглянет в окна, увидит её выходящей из отеля, или входящей в отель, – и сразу всё поймёт. А если посмотрит на её приятелей – поймёт тем более. Уловит какие-то сигналы, волны, импульсы. Если меж двоими есть связь, внимательный наблюдатель сразу её вычислит.
Теперь он сидел, продрогший, почти трезвый, и злился на себя – как, бывало, злился в молодости, когда непрерывное, в течение двух или трёх суток, наблюдение за каким-нибудь недотёпой не давало результата, или, точнее, давало отрицательный результат: недотёпа, задолжавший крупную сумму, не посещал, в отливающем пиджаке, казино и стрип-клуб, не столовался в дорогих ресторанах и не сдувал пылинки с коллекционного «Феррари», спрятанного в тайном гараже, а влачил постыдно унылое существование мещанина. Куда дел деньги – неясно. А так хотелось вернуться к заказчику и сказать: «Я нашёл! Он живёт двойной жизнью, он тайно от вас строит собственный кирпичный завод».
Тогда писателю было двадцать два года, и он ещё ничего не написал, но писательское воображение уже играло с ним злые шутки.
Он думал, что люди живут интересно, ярко, бурно, плотно. А они жили скучно и вяло.
Он не верил. Он потратил пятнадцать лет, чтобы найти тех, кто живёт интересно, и в итоге обнаружил, что самый интересный человек, встреченный им за полтора десятилетия непрерывных поисков, – это он сам.
Выпив ещё две рюмки, он стал злиться уже не на себя, а на жену. Выпрыгнула бы из отельных дверей, сияя и хохоча, на каблучищах, в драгоценных камнях, под руку с мощным, широкоплечим, белозубым, – тогда он, её муж, испытал бы боль, но и восхищение. А так он чувствует только досаду. Опять ничего не происходит. Опять ничего не ясно. Только тени за шторами, только смутные подозрения.
Он поел, очень медленно, и убил почти полтора часа. Убивать время – великий грех, но иногда у человека нет другого выхода. Вышел на Невский, побрёл было, глазея, на манер западного туриста, на тяжеловесные фасады, – но вдруг испугался, что случайно наткнётся на жену; свернул в переулок и укрылся в первом же попавшемся баре. Город был серый, стылый, безучастный, созданный не для людей, а ради великой идеи, но заведений на любой вкус и кошелёк здесь было достаточно. Когда-то, ещё в детстве, писатель дважды приезжал сюда с родителями – ходить по музеям, пропитываться культурой, – и уже тогда обратил внимание на обилие кафе и закусочных. Мать, в ответ на вопрос, пожала плечами. «Они пережили блокаду, – предположила она. – Умирали от голода. Наверное, страх перед голодом навсегда въелся в их память и заставляет их открывать ресторанчики в каждом удобном полуподвале…»
Люди города, впрочем, уже тогда показались писателю лишёнными страха. Сложенный из массивного камня, город выглядел прочно. А теперь, спустя тридцать лет, местные жители и вовсе выглядели спокойными европейцами; разумеется, к созданию множества ресторанов и баров их подтолкнул не страх, а здоровая балтийская предприимчивость.
Писатель достал было ноутбук, но даже не включил. Досада никуда не делась. О работе не могло быть и речи. Глупо. Очень глупо. Ревнивец приехал следить за супругой – но взял с собой компьютер; чтоб, значит, не терять времени. Глупо, странно, смешно. Ревнивцы так себя не ведут.
«Иди к чёрту, – сказал он себе. – Ревнивцы все разные, и ведут себя по-разному. Ты разве специалист по ревности? Ты вообще не ревнуешь. Просто хочешь знать. Тебе кажется важным знать, было или нет. Сам факт…»
Бар оказался дурной, душный, неуютный. Снаружи пошёл дождь, люди быстро забили узкое помещение, и писатель оказался в западне. Встать, уйти – за порогом харчевни холод, ветер, небесная вода; не найдёшь более чистого места, вернёшься, – стол уже займут. Остаться – дышать кислыми запахами, слушать финскую, немецкую, английскую речь; языков писатель не знал, и сейчас опять устыдился своей необразованности.
Попросил ещё дозу коньяку; решил расслабиться.
Это было легко. Писатель не забывал, что его создали, породили – именно дешёвые прокуренные кабаки. Половину сознательной жизни он провёл в дымных, полутёмных заведениях, где публика из нижнего среднего класса отдыхала по вечерам от своих забот. Здесь он ел, сочинял, назначал встречи. Много курил. Пил; иногда много, иногда мало. Ел всегда мало. Писал всегда много.
В какой-то момент – может быть, три года назад – понял, что его жена устала от такой жизни. Она его не понимала. Она звала его в Рим, в Прагу, в Барселону. Он соглашался, но на третий день пребывания в любой европейской столице находил дешёвый прокуренный кабак – и, отыскав, успокаивался. А успокоившись – понимал, что европейские дешёвые кабаки много скучнее русских дешёвых кабаков.
Дождь прекратился, и он вышел под низкое небо.
Его считали интересным человеком, и книги его были полны интересных историй. Только жена знала, что на самом деле писатель – молчаливое, скучное существо, и все его развлечения сводятся к телевизору. Свои сюжеты он черпал из времён молодости; событий было столько, что теперь он мог писать всю жизнь, ни на что другое не отвлекаясь. А жена возражала, и однажды он понял, что у неё есть другой мужчина.
Не понял, – заподозрил.
Для слежки нужен автомобиль. Когда стемнело, писатель взял такси. Очутившись в странно чистом салоне, осведомился, можно ли курить. «Извольте», – ровным голосом ответил драйвер; сразу стало ясно, что для сегодняшних целей он не подходит. Писателю стало смешно. Обычно водители такси раздражали его бесцеремонностью, запахом носков и рудиментарным музыкальным вкусом, но вот – редкая удача, за рулём настоящий интеллигент. И что? Он не нужен, а нужен среднестатистический выжига, пропахший бензином трудящийся. Пролетарий педалей. «С интеллигентами всегда так, – подумал писатель. – Они всегда возникают не вовремя».
Попросил остановить на углу Невского и Марата, вышел. Расплатившись, сообразил, что деньги надо перераспределить. Отделил несколько купюр от общей пачки, положил в карман штанов, остальные – в пиджак, рядом с сердцем. Посмеиваясь над собой, пересёк улицу и поймал ещё одну машину – на этот раз вполне удачно. Таксист был молод, ухмыльчив и выглядел ленивым негодяем. Писатель всегда любил негодяев, он много лет прожил в среде негодяев и хорошо знал, как себя держать в обществе негодяев. Он показал деньги и объяснил, что нужно делать. Таксист азартно сверкнул серым глазом и золотым зубом. Он ничем не рисковал. Лучше стоять, чем ехать. Лучше ничего не делать, чем делать что-нибудь. Разумеется, при условии заранее оговоренной оплаты; деньги вперёд.
Они встали на противоположной стороне улицы – так, чтобы видеть и окна номера, и вход в отель. Ожидание могло растянуться на много часов; писатель расслабился и слегка откинул спинку кресла.
От скуки водила неизбежно затеял обычный, достаточно бессмысленный разговор, но писатель сразу прервал его и стал говорить сам; и это был монолог. Давно известно, что любого бессмысленного болтуна можно успокоить, если сразу забить ему весь эфир. Заставить слушать себя. У писателя имелись несколько заготовленных монологов, каждый можно было длить сколь угодно долго. Тотальная коррупция, война, цены на бензин в Европе и Азии, оружие, тюрьма, бесчинства инспекторов дорожного движения, авиаперелёты, азартные игры, автомобили и мотоциклы. А вот я однажды в Барселоне; а вот я однажды в Амстердаме. Общие фразы нежелательны – болтун сразу тебя перебьёт. Нужны только конкретные истории, слепленные по правилам драматургии, с началом, серединой и концом. Хорошо идут упоминания о крупных денежных суммах. А вот я однажды отдавал человеку пятьдесят тысяч немецких марок, это было ещё до введения евро, и человек приехал на встречу, надев под рубаху резиновый пояс, чтобы надёжно спрятать богатство на собственном теле, и удивился, увидев, вместо многих лохматых пачек, тоненькую стопку; он не знал, что существуют купюры номиналом в тысячу марок… И так далее. Истории выскакивали из писателя сами, одна тянула другую, эпизоды перекладывались решительным уголовным жаргоном, грубой бранью и скупыми жестами.
Так прошло почти четыре часа, шофёр устал, скурил все свои сигареты, и писатель угостил его, – а потом увидел жену.