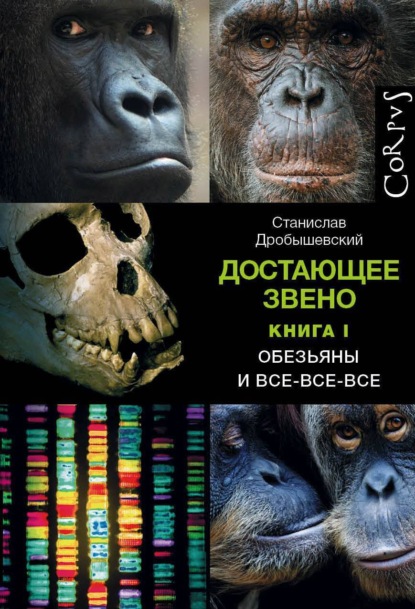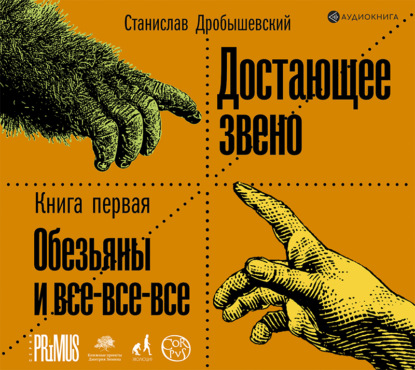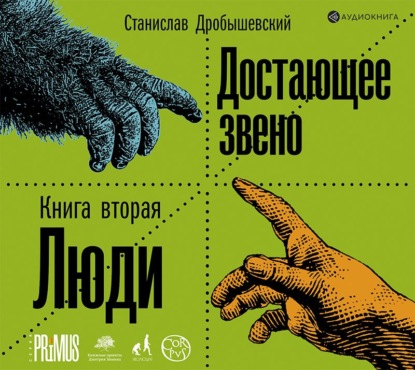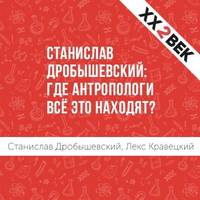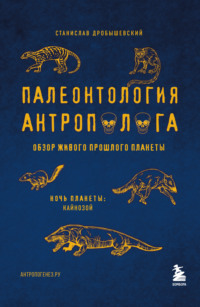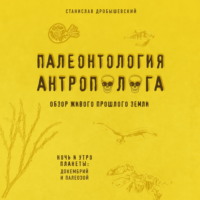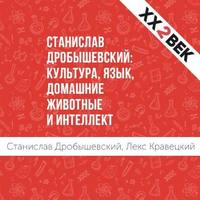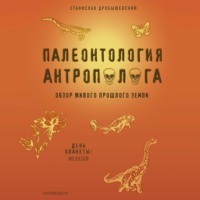Достающее звено. Книга 2. Люди
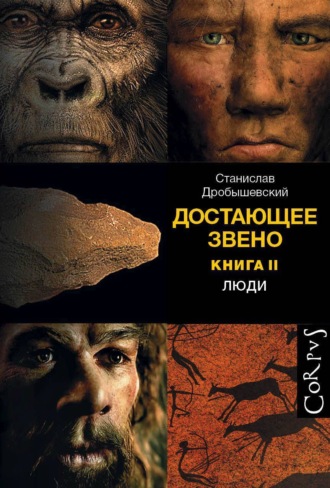
Полная версия
Достающее звено. Книга 2. Люди
Жанр: научно-популярная литературабиологияантропологиязоологияэволюцияпроисхождение человечестваэволюция человечествадарвинизмиздательство Corpusзнания и навыкиэволюция и антропология
Язык: Русский
Год издания: 2017
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу