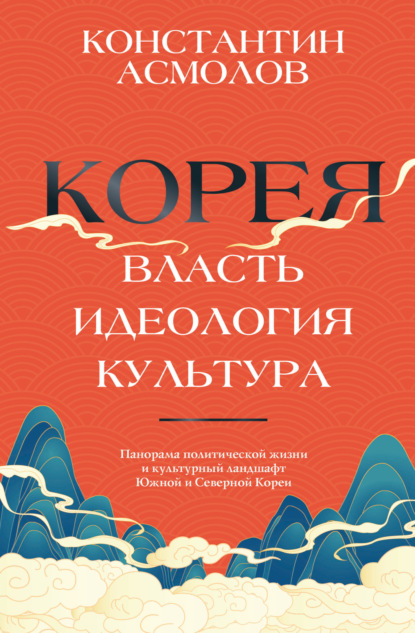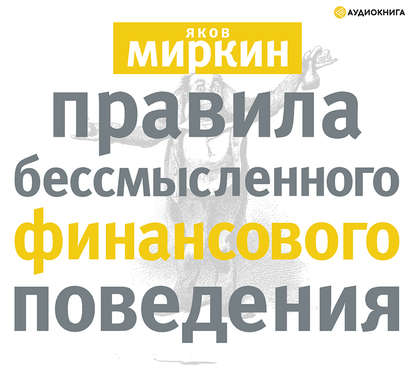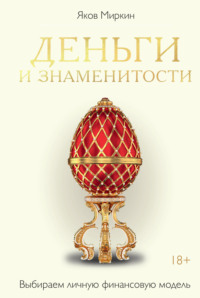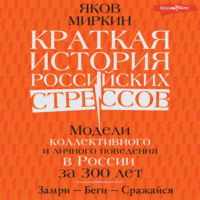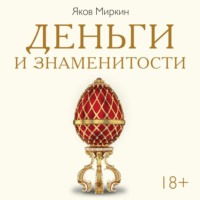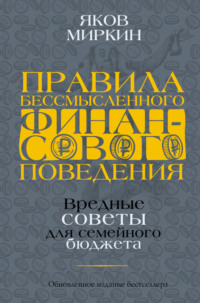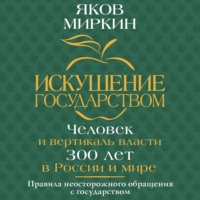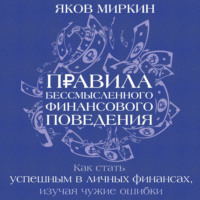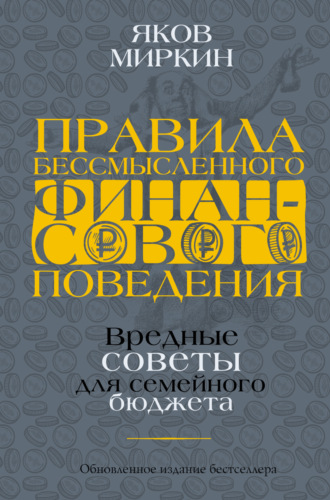
Полная версия
Правила бессмысленного финансового поведения. Как стать успешным в личных финансах, изучая чужие ошибки
Так что зарывать клады бесполезно. За кладами не возвращаются. Знаменитый нарышкинский клад из двух тысяч с лишним предметов столового серебра, пяти сервизов, таился в Петербурге, на улице Чайковского, 29, среди коммунальных квартир, под полами, в замурованной комнате, полтора на два метра. Сиял, не окислился, когда нашли его в мешках, пропитанных уксусом, и в газетах осени 1917 г. Дело было через 95 лет, в 2012 г. Нашлась и внучка, 84 лет, конечно, в Париже. Дело было безукоризненное – на каждом предмете нарышкинское клеймо, личная вещь. А отдать ее нельзя. И клад осел в Константиновском дворце (ныне – государственном).
Ибо – торжественно, медленно повторим: «конфискация имущества производится… в отношении лиц, бежавших за пределы Республики из политических побуждений и не возвратившихся к моменту конфискации». По статье 13 Сводного закона от 28 марта 1927 г. «О реквизиции и конфискации имущества», Постановление ВЦИК РСФСР от 28 марта 1927 г. «Об утверждении Сводного закона о реквизиции и конфискации имущества»). И этот закон действует!
Никто из них не вернулся в Россию к моменту конфискации. И больше никогда не вернется. Так что не делайте ям и потаенных комнат – за кладами не возвращаются и их не отдают – никому и никогда [2].
Ваших кладов больше нет
Были другие дома, и даже дворцы – и там были тоже клады большой силы. Знаменитый Феликс Юсупов, князь, женатый на племяннице Николая Второго, Ирине, писал в своих мемуарах 1917 г.: «Осенью я решил съездить в Петербург – припрятать драгоценности и самые ценные предметы коллекции. Как приехал, тотчас взялся за дело. Слуги, из самых преданных, помогали… Я собрал все фамильные брильянты и… поехали мы в Москву спрятать их. Схоронили под лестницей… Узналось все восемь лет спустя. Рабочие чинили ступеньки и нашли тайник». И добавил: «Из газет узнал я, что в Москве большевики нашли драгоценности, которые я так хитроумно спрятал в тайник под лестницей… Против рожна не попрешь… Пропали брильянты в Москве. Остается покориться судьбе и жить дальше» [3].
В то же время другой Феликс – Дзержинский – докладывал в ЦК РКП (б) 07.04.1924 «7-го апреля этого года нам сообщили из Военно-исторического музея (бывший особняк князей Юсуповых), что под лестницей вестибюля обнаружен тайник, в котором через отверстие в вершок-полтора, проделанном в стене, видны какие-то блестящие предметы… В тайнике оказались сложенные на полу разные старинные серебряные вещи (кубки, чаши и пр.) и несколько запертых сундучков… В одном из ящиков оказались драгоценные камни и украшения из них». Всего – на несколько миллионов рублей. 25 % стоимости мне нужны «на постройку опытно-образцовых домов для рабочих» [4]. 1 млн руб. 1924 г. – это не меньше 1 млрд руб. 2023 г.
Потомкам Юсуповых (а они есть) не досталось ничего. Из дворца Юсуповых в Петербурге только в Эрмитаж в 1923 г. было передано более 7 тыс. предметов, в т. ч. 277 картин (всего было их 1070), 1172 рисунка старых мастеров, удивительный фарфор на 268 предметов. Из тайников дворца в 1919 г. в Госбанк было передано больше 80 пудов столового серебра, потом еще 8 ящиков серебра, больше 13 кг золота и 4 ящика с драгоценностями [5]. Когда мы бродим вокруг «Амура и Психеи» Кановы в Эрмитаже – спасибо Юсуповым, когда-то и Амур, и Психея были их.
Что сказать? Кладов хочется, с детства хочется, таинственных, прекрасных. Но пусть не нужно будет зарывать их у нас дома, пусть никогда и никому не придется в вынужденных обстоятельствах спасать – и терять – свое имущество. Пусть все клады у нас будут только самых древних времен, и пусть никто из наших внуков, или даже праправнуков, не найдет ни одной металлической коробочки, в которой будет валяться все наше достояние. Пусть лучше наше имущество будет спокойно переходить из поколения в поколение, пополняя хорошую жизнь наших детей. Клады XXI века? Никогда!
Кладоискатели
Бессмысленно закапывать клады – их не отдают. Но мы ищем клады всю жизнь. Мой знакомый был кладоискателем в кубе. В старом, большеглазом двухэтажном доме – крепости его предков – были стены из толстых почерневших бревен, были полы с ямами под паркетной доской и еще внизу был просторный, безумный, злобный темный подвал, конечно, из кирпича, цепкого, как кошачий глаз. Не банкам же там валяться, набитым паучьей пыльцой, а золоту быть под покровом ночи.
Вступив в этот дом в сладком десятилетнем возрасте и сжившись с двором, кошкой, комнатами с вечнозелеными обоями и солнцем, он объявил отцу, что будет искать клад. Здесь должен быть клад. Он обязан быть закопанным. Или забитым под половицу. Или спрятанным в потемневшую масляную тряпочку, из-под которой проступают червонцы, но в шкафу с двойным дном.
– Нет, – сказал отец, – друг мой, ты ничего в нашем доме не найдешь.
– Ну, папочка, – заныл мой знакомый, конечно, в образе десятилетнего оборвыша. – Пусти меня в подвал, там – тайны, там могут быть даже призраки, которых нужно умолить уйти, пока не поздно!
– Однажды, – сказал ему отец, – поздним летним вечером, далеко до войны, к твоим бабушке и дедушке постучались два странника, он и она. Дело было в 1932 году, для тебя таком же далеком, как и годы пиратских наслаждений.
– Можно ли пройти на кухню, – спросила женщина твою бабушку, Полину Сергеевну, – и поговорить?
Никто ведь не помнит, как они выглядели. В темном, в синем, морщины, платок, выдававший его хорошее происхождение, может быть, седины, выцветшие глаза, что очевидно даже под хмуроватой лампой. Или так все было устроено, что они растворились в вечернем воздухе, как будто их и не было, оставив только след, что были.
– Простите, – спросил странник, высокий, сухопарый. – Как вас величать?
– Федор Иванович, – ответил твой дедушка.
– Поговорите с нами? – спросил он. – Стакан чая, может быть?
Чай, чай, чай. Над ним можно толковать, над кофейником, пожалуй, нет – терпкое разъединяет души. Но чай – да, конечно, и именно за чаем они признались – здесь не нужно имен, – что это их дом когда-то был – до реквизиций, до простраций, до выселений и просто бегств, но дом, старинный, плотный, был, несомненно, их. И можно без имен – хотя для взыскующего вынуть из бумаг их имена заняло бы полчаса.
За пять минут можно отторгнуть человека. А здесь прошлись по комнатам, и женщина застыла у печи, у изразцов, хотя и сгорбленных, но еще цветущих. «Я брала их у Кузнецова, – вдруг сказала она. – И у нас есть к вам нижайшая просьба».
Переночевать? Скрываться? Тайно подглядывать из окна? Не доносить властям?
– Видите ли, – и они переглянулись между собой, – мы надеялись вернуться и, когда спешно уходили из города, зарыли в подвале жестянку с червонцами.
– Золотыми, – добавила она, хотя и так было понятно, что не бумажки, не керенки, не гербы пустоглавые, а только николаевское золото могло быть закрыто, пусть и в жестянке или в промасленном кошельке, но только золото великое, самоцветное, пестро сияющее могло скрываться под земными глубинами.
– Клад, – добавил он и засмеялся. – Золотой клад, господи, как в детской книжке!
И попросил его отдать – для жизни советской, хотя, как зовут, где бытуют и потихоньку скрипят, конечно, не рассказал. Прилетели, сели, клюнули, выпили чайку, того, что липовый, – и скрылись во тьме, которой у нас много в душе.
В подвал вели литые, в узорах, ступеньки. В руках была керосиновая лампа, а гостям, или птицам – как их называть? – вручили лопату, не серп и не молот. Первый удар лопатой был глух, второй – беспочвенен, от третьего и мышь бы не зашевелилась, а вот на четвертом, нежном, почти скребке, был услышан не стон, а скрежет.
И был розовый восход. Из праха, из горечи пустынной появилась, с двуглавым жестяным орлом на крышке, большая, грешная цилиндрическая коробка «Товарищества Эйнемъ», набитая червонцами, как медно-тусклыми леденцами.
Бабушка ойкнула. Дед, наверное, заскрипел зубами. А затем двинулись вон, как пробитые пулей голуби. Не наше. Гости между тем набивали золотом малые емкости, но ежились, не запрут ли их сейчас в подвале, как бывает с кладоискателями и еще – правдолюбцами. Им было страшно. Наверху были люди и власти.
Наконец дверь сказала: «Заржавела, скриплю!» – и они появились из подвала на свет. Женщина держала в руке тряпицу с золотом – мерси за сохранение, за то, что сами клад не нашли, и за то, что не закрыли в подвале, ибо мало благоволения в наших проклятых лесах.
– Нет! – сказала бабушка Полина Сергеевна.
– Нет, нет! – сказал дедушка Федор Иванович.
Или они ничего не сказали – история об этом умалчивает, – а просто руку, к ним протянутую с тряпицей, полной золота, отодвинули, и пошли дальше, в год 1933-й, а потом в жестокий 1934-й и не менее проклятый 1935 год – дальше в войну.
Поэтому никто никогда не узнает их полных имен – благотворение должно быть слепым, глухим и немым.
– Но хотя бы в каком городе это случилось? – спросил я своего знакомого, так и не разрывшего подвал, как крот.
– В старинном купеческом городе Шадринске, – был ответ. – На реке Исети.
Бессмысленно закапывать клады в Москве. Никогда не вернутся они в Петербурге. Но, если в Москве встать лицом на восток и отсчитать ровно две тысячи километров, не больше и не меньше, то там, в городе Шадринске, на реке Исети, есть дом – куда ему деться, – где в подвале нет ни сундука, ни жестяной коробки, зарытой на полметра, ни даже царского пятака, вынырнувшего неизвестно откуда.
Этот дом стар, когда-нибудь совсем развалится, но он совершенно чист.
Любовь к денежным реформам
В XX веке в России – 2 гиперинфляции, 4 денежные реформы, 2 деноминации. В XXI веке пока ни одной, хотя исторической памяти не стоит терять: денежные потрясения – дело обычное.
У государства всегда была любовь к конфискационным реформам.
Помнить нельзя забытьПоставьте запятую так, как считаете нужным. Но лучше все-таки помнить. Конфискационными денежными реформами был пронизан весь XX век. Рано или поздно кто-нибудь может захотеть согнать нули и с нынешнего рубля. Скажем, обменять 100 руб. на 1 руб. новый, вернуться к «полновесности» нашей валюты. Или добиться того, чтобы за 1 долл. США давали не 75–80 руб., как сегодня, а 75–80 коп. В России всегда любили сильный рубль, всегда считали его знаком силы государства.
Не факт, что это может быть так мягко, как в 1961 г. или 1998 г., когда денежный обмен свелся просто к деноминации.
Деноминация – не денежная реформа. Никаких ограничений по срокам обмена, никаких невыгодных курсов в обмене «старых» денег на «новые». Просто изменение масштаба цен плюс замена купюр. Скажем, деноминация 100:1 означала бы, что купюры с номиналом в 100 руб. будут заменены на купюры в 1 руб., валютный курс рубля станет автоматически вместо 85 руб. за доллар – 0,85 руб. за доллар, цена вместо 400 руб. – 4 руб., и так далее.
Деноминация – сложная техническая операция, ее не проведешь мгновенно (новые купюры должны замещать старые постепенно). Пример – 1998 г.: 1000 руб. – на 1 руб. Нужно миллиарды новых купюр напечатать, распространить и т. п.
Но бывает и так, что власти считают, что у населения – «денежный навес», что часть наличности накоплена неправедным путем, что ее нужно срезать и т. п. Тогда возникает конфискационная денежная реформа.
Так было в 1947 и 1991 гг. И так, по оценке, случилось в 1993 г., пусть и не в таких сокрушительных масштабах, как раньше.
Как отнять деньги?Очень просто, нет проблем. Главная идея денежной реформы 1991 г. – убрать «денежный навес» (слишком много денег у населения и мало товаров). Но были еще и экзотические идеи – якобы начался контрабандный завоз фальшивой наличности из-за рубежа и диверсией этой занимаются западные банки.
Реформа была жестка, как жестяная банка. Объявлена «по телевизору» в 9 часов вечера 22 января 1991 г. Меняли не больше 1000 руб. на человека. Если больше, то спецкомиссии должны были это разрешить. Сразу же заморозили вклады в Сбербанке (на руки – не более 500 руб. в месяц). Те, кто копил на старость, могли лишь бессильно смотреть, как тают под ростом цен их сбережения. С апреля началась еще одна «конфискация» – повышение указами государственных розничных цен. Мясо стоило 2 руб., стало – 7 руб. Сахар был 85 коп. стал – 2 руб. Колбаса прошагала от 2 руб. к 10 руб.
На нас были сброшены все неудачи бывшего СССР. А какие? Что не удалось сделать? Сбалансировать военный и гражданский секторы. При падении мировых цен на нефть дать все стимулы росту. Обеспечить осторожный, двухсекторный переход к рынку, не уронить экономику. Накормить население – как лозунг, которому подчинено все на свете.
Денежная реформа 1991 г. – точка отсчета кризиса 1990-х, скачка инфляции. Бегства капитала из России. Кто будет вкладывать деньги там, где их отнимают?
Что в результате? Были съедены все сбережения тех, кто старше. В рынок вошли без главного инвестора – населения. Лучшего урока для тех, кто боится вкладывать в Россию, просто нельзя было придумать. На 25 лет вперед основными инвестициями в Россию стали спекулятивные, а главным риском – отъем собственности.
А как это было в денежную реформу декабря 1947 г.? [6] Цель – изъять большую часть наличности, резко сократить платежеспособный спрос тех, кто смог что-то «накопить» правдами и неправдами. Наличность, бумажные купюры, обменивались как 10 «старых рублей» на 1 руб. новый, вклады в сберкассах до 3 тыс. руб. (более 80 % вкладчиков) – как один к одному, суммы свыше 3 до 10 тыс. руб. – «за 3 рубля старых денег – 2 рубля новых денег», суммы свыше 10 тыс. руб. – «за 2 рубля старых денег – 1 рубль новых денег».
Одновременно тем же постановлением о денежной реформе «позолотить ручку» – отменялись карточки, уничтожалась двойная система цен (пайковые и коммерческие), вводились и единые государственные розничные цены (гораздо выше, чем в 1940 г., но ниже коммерческих). Цены на хлеб, муку, крупу и макароны снижались против пайковых на 10–12 % (и, значит, даже против 1940 г.), на табак и спички оставлены «пайковыми» (близкими к 1940 г.). Хлеб, как и все, что рядом с ним, должен быть дешев, иначе властям – не жить. Все остальные цены, сделав едиными, подняли в несколько раз (их уровень – между «пайковыми» и «коммерческими»).
А что в итоге? На начало декабря 1947 г. в обращении 59 млрд руб. наличности, к 16 декабря – 43,6 млрд руб., к концу декабря – 4 млрд «новых» рублей. Вклады в сберкассах на 16 декабря 1947 г. – 18,6 млрд руб., в конце декабря – 15 млрд руб. Количество денег, выпущенных в обращение, составило к концу 1947 г. 63,3 % от уровня 1940 г. [7] Экономический результат – экспроприация у населения более 90 % наличности (полученных ранее доходов, платежеспособного спроса) и 16 % вкладов в сберкассах. Вместо госдолга (облигационных займов населению) в 159 млрд руб. должно было остаться 59 млрд руб., т. е. сумма долга должна была сократиться в 2,7 раза [8].
А что с ценами? Перед началом денежной реформы государственные розничные цены были выше уровня 1940 г. в 3,04 раза. После ее завершения, в 1948 г., – в 2,56 раза [9].
Из денежной реформы население вышло с едиными государственными ценами (выше довоенных в 2,56 раза), при ликвидации более 90 % сбережений в наличности, имевшейся на руках, 16 % вкладов и более 60 % сбережений в облигациях.
1993 год. Последняя денежная реформа XX векаВсе началось 5 июля 1993 г. Банк России (наш главный, центральный) телеграфировал банкам – с 6 июля денежные знаки СССР в оборот не выпускать [10]. Почему? «В целях устранения множественности модификаций денежных билетов». Привычные всем бумажные рубли, трешки, пятерки, десятирублевки и т. п. – им вынесен приговор. Они еще есть, но будущего у них уже нет.
Но это еще не денежная реформа, не смерть старым деньгам. Зампред Банка России в «Известиях» заверяет, что замена банкнот будет мягкой, постепенной. Публика пока ничего не подозревает. Следует пауза, 3 недели – и вот наступает день Х.
Это – cуббота, 24 июля 1993 г. В выходные все закрыто. Мало что можно сделать, даже если кинешься менять, рыскать с деньгами по городам и весям, пытаясь их кому-нибудь всучить, пусть за немыслимый процент, лишь бы сохранить хотя бы часть стоимости. Лето, июль, разгар отпусков, масса людей – в отъезде. Президент России – в отпуске, министр финансов – в США.
Все готово для паники. В субботу, 24 июля 1993 г., банкам спускается новая телеграмма Банка России: с нуля часов 26 июля 1993 г. (т. е. с нуля часов понедельника) все бумажные деньги, выпущенные в 1961–1992 гг., «прекращают обращение на всей территории Российской Федерации» [11].
Вашим наличным – конец, они больше не деньги, их можно только обменять на «банкноты нового образца». И вам разрешено – так гласит телеграмма – обменять только 35 тыс. руб. А за это вам поставят в паспорт печать, чтобы вы— ни-ни, нигде и никогда не могли обменять сумму больше. Все, что больше 35 тыс. руб., сдадите в Сбербанк, и эти деньги вам зачислят на депозит сроком на 6 месяцев, без права на выдачу наличных. На весь обмен (разгар отпусков, жаркое лето) даются на всю страну, на все 148 млн человек, где бы они ни были, только 10 рабочих дней, с 26 июля по 7 августа.
Ответ – ужас, чувство беспомощности. Как пробиться сквозь очереди в сберкассы? Всего 10 дней на обмен! Старые деньги уже нигде не принимают. Люди в отпусках – как им вернуться, на что? Платежные карты? Их в стране практически нет.
Это означало только одно – конфискационную денежную реформу. Ну и что, что «один к одному»? Не успеть, не обменять – потерять деньги, имущество. Процент по депозитам – гораздо ниже инфляции.
А что такое 35 тыс. руб. в 1993 г.? Это примерно 30–35 долл. США. Средняя зарплата в России в 1993 г. – 58,7 тыс. руб [12]. То есть к обмену допускалась сумма ниже месячной зарплаты одного человека на 40 %. Цены 1993 г.: 1 кг мяса – 2,05 тыс. руб., 1 кг колбасы – 3,7 тыс. руб., 1 кг сыра – 2,5 тыс. руб., десяток яиц – 0,77 тыс. руб., 1 кг сахара – 0,7 тыс. руб., 1 кг яблок – 0,8 тыс. руб., водка – 4 тыс. руб. До зарплаты, которую выдадут «новыми деньгами», еще нужно дожить.
Картины с местВот репортажи «Российской газеты» о событиях в понедельник, 26 июля 1993 г [13]. Пенза: длинные очереди у отделений Сбербанка, в местном Сбербанке не хватает новых денег на размен. Самара: нет разменной монеты, в магазинах сдача спичками. Петропавловск-Камчатский: очереди в отделениях Сбербанка, многие в очередях усматривают «еще одну попытку властей ограбить народ», что делать отпускникам, получившим на руки 200–300 тыс. руб.? Сочи: паника в санаториях. На какие деньги купить обратные билеты?
«Известия»: [14] сдача жетонами на метро или жевательной резинкой, прекращена продажа газет, скандалы в очередях в магазинах – нет разменной монеты. Сбербанки Смоленска, Хабаровска – нет новых денег. «С утра обстановка в очередях накалилась, звучали даже угрозы применить оружие против работников сбербанка за отказ в обмене денег», «крайне накалена атмосфера среди отдыхающих на Черноморском побережье», появились уличные менялы со своим курсом, «большинство курортников оказались в безвыходной ситуации» (В. Коновалов). Что делать северянам, шахтерам, нефтяникам (у них высокие зарплаты), крестьянам (как добраться до отделений Сбербанка) (О. Лацис)? В валютных обменниках два курса: новые банкноты – 1150–1300 руб. за 1 долл., старые банкноты – до 2500 руб. за 1 долл. С резкими заявлениями («мы ничего не знали») выступили Председатель Верховного совета и министр финансов.
А что сказано в дневниках? Все то же. Татьяна Коробьина, 82 года, 26 июля. «Сегодня тысячи людей стоят около сбербанков, чтобы обменять деньги. А те, кто уехали куда-либо далеко в отпуск, в полной растерянности… У нас, как всегда, бестолковщина – новых денег почти нет, есть крупные купюры, а мелких нет… сдачи давать нечем». 27 июля. «Газеты… два дня никто не мог купить… Магазины наживались, так как некоторые уходили, не получив сдачи» [15].
А вот экстремал, аноним, его дневник, 25–27 июля: «Подлежат обмену деньги в сумме символической, на полпуда колбасы хватит той наличности». Или: «Эту акцию обмена провокация заела, сила черная засела». Или даже: «Сколько выдержит народ такие издевательства? Неужели нет границы этим надувательствам?»
Почему так жестко?А как отбивался Банк России? Вот ответ: Россия переходит на свою валюту, на российские рубли, нужно отсечь ее бумажноденежную массу от рублей, старых банкнот, в бывших республиках Союза. Они обрушиваются на российский рынок, товары – за бумажки, растет инфляция.
Но почему такие жестокие сроки? ЦБ РФ упирался – мы правы, старых купюр мало, всего 7–10 % в денежной массе (А. Хандруев, зампред ЦБ РФ) [16].
Затем со временем был дан другой ответ: ошибочка вышла. В. Геращенко (в 1993 г. председатель Банка России): «В 1961 г., когда производился обмен всех денег, было установлено, что старые и новые дензнаки будут иметь хождение три месяца. Но население тогда сдало старые деньги за три с половиной недели. Поэтому мы посчитали, что на этот раз успеем произвести обмен за две недели» [17].
ВмешательствоВ понедельник, 26 июля 1993 г., в обмен денег вмешался Президент РФ [18]. Это была срочная хирургия. Лимит обмена поднят до 100 тыс. руб., срок обмена продлен на весь август, мелкие купюры в 1, 3, 5 и 10 руб. снова признаны действительными (как «разменная монета», пока ее не хватает).
И все успокоились, и жизнь снова потекла полноводной рекой.
Только вот насилие над деньгами семей – внезапно, в момент летних отпусков – забыть уже невозможно.
Сколько старых рублей изъяли?По отчету Банка России за 1993 г. [19] обменяли 1,9 трлн руб. старого образца (0,7 трлн руб. – бизнес, 1,1 трлн руб. – население, 0,1 трлн руб. – мимо Сбербанка, через так называемые расчетно-кассовые центры ЦБ РФ). На депозиты в Сбербанк положили всего 0,04 трлн руб. (167 тыс. человек).
А сколько человек всего пришли менять старые купюры? С 26 июля по 31 августа 1993 г. – 24 млн человек, в среднем по 46 тыс. руб. на брата. А сколько денег было потеряно населением? Не смогли их обменять? Неизвестно. На начало 1993 г. масса наличных денег в обращении в России – 1,68 трлн руб. [20] Все они состояли из старых купюр и должны были быть обменены. Но на начало июля 1993 г. масса наличности была, по оценке, не ниже 5,1 трлн руб. [21] Все это время (6 месяцев) банками «наружу» выпускались не только новые, но и старые купюры.
Сравним эти числа – из 5,1 трлн руб. изъяли (обменяли) 1,9 трлн руб. А остальные? Это смесь из «старых» и «новых» денег, и сколько «старых» осталось за бортом, сколько их потеряло население – бог его знает! Хотя Банк России должен был бы это знать.
Но эти данные никогда не публиковались.
Пыль и прах денегНаличные деньги – грубая, тяжелая материя. Реформа 1993 г. – замена миллиардов банкнот. А что с ними случилось потом?
В. Геращенко: «Мы сняли два цеха на заводе им. М. В. Хруничева… Кроме заводской охраны поставили свою. Очень пригодилась их железная дорога. В результате считали деньги пять лет!»
Пять лет! А дальше – что? «Деньги можно только сжечь и только на цементном заводе. Топки металлургических комбинатов не выдерживают, прогорают колосники. КПД сгорания настолько высок, что даже цементные заводы закатывают скандалы, когда им предлагаешь провести эту… процедуру» [22].
Уроки историиА есть ли они? Да, конечно! Не дай бог попасть в конфискационную денежную реформу. Не копите бумажные деньги. Не считайте их истинной ценностью. Есть масса примеров, когда они вдруг, в один час становятся просто резаной бумагой, хорошего качества, с прекрасными иллюстрациями и защитными знаками, но все-таки – бумагой. Вкладывайте, прежде всего в себя, в свою силу, в свое здоровье, в свои умения, в возможности генерировать доходы даже в самых старших возрастах. В свою семью, которая всегда поднимет и прокормит. В дома, в землю, в имущество, не теряющее в одночасье свою ценность. В то, что можно передавать из поколения в поколение, а не обклеивать им стены.
Седуксен [23]
«В сейсморазведке не было принято обращаться к другим по прозвищам, хотя в сейсмике всегда работало много бывших зэков, так как сейсмика давала и одежду, и кров, и пищу, и прописку, и хорошую зарплату. Да и в отделе кадров на судимость не смотрели, нужны были люди для работы в суровых условиях. Когда в Москве зарплата в 200 рублей считалась большой, а в 300 – очень большой, моя первая зарплата в сейсморазведке, когда у меня еще не было «северных», составила 600 рублей в месяц.
Работал у нас мужик, которого за глаза все называли «седуксен». Хороший мужик, тракторист, бывший зэк, регулярно глотал таблетки седуксена, за что и получил это прозвище.