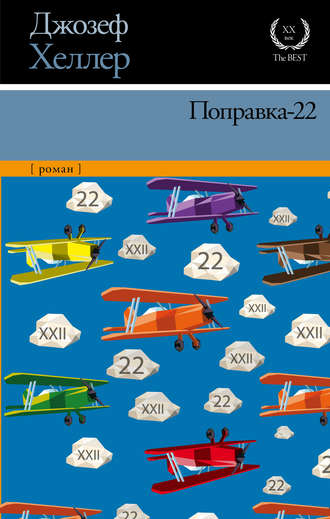
Полная версия
Поправка-22
– Не посеешь – не пожнешь, – уверенно утверждал он.
– Воистину так, – скрепляли соседи.
Этот благочестивый фермер истово приветствовал экономию государственных средств, пока правительство исправно выполняло свой священный долг по закупке у фермеров всей выращенной ими люцерны, которая была никому не нужна, или по оплате всей не выращенной ими люцерны, которую они могли вырастить на своих полях. С гордой независимостью отвергал он закон о пособии безработным и никогда не уставал выклянчивать, выпрашивать, выцыганивать или вымогать все, что возможно, у кого было можно, ибо взывать к людям о своих богоугодных нуждах он мог всегда и везде.
– Господь Бог дал нам, добрым фермерам, две могучие длани, дабы загребали мы ими обеими все что можно, – вдохновенно провозглашал он со ступеней суда или перед дверьми магазинчика, принадлежащего концерну «Всеамериканская бакалейная торговля», поджидая, когда молоденькая вздорная кассирша, за которой он ухлестывал, выйдет с неизменной порцией жевательной резинки во рту на улицу, чтобы наградить его сварливым взглядом. – Если бы Господь наш не возжелал, дабы загребали мы, грешные, сколько сможем, – продолжал он, – нам не достались бы, его произволением, две добрые длани.
И присутствующие согласно бормотали:
– Воистину так.
Подобно кальвинистам, он верил в предопределение и без труда провидел, что любые несчастья, кроме его собственных, ниспосланы людям Господом. Он курил и выпивал, а из бесед особенно ценил мудрые и глубокие, приправленные добрым юмором, особенно свои собственные, особенно когда он врал, ради доброй шутки, про свой возраст или шутил насчет Господа Бога и затяжных родов своей жены. Шутка про роды жены и Господа заключалась в том, что Бог сотворил за шесть дней весь мир, а его жена тужилась целых полтора дня, чтобы произвести на свет одного-единственного майора Майора. Человек нестойкий просто промаялся бы на его месте эти полтора дня в больничном коридоре, а человек непоследовательный успокоился бы на полумере вроде Майера Незамайера или Майера Шмайера или, к примеру, дал бы сыну позорно куцее имя Майер Майер, чтобы крохоборно увековечить в нем себя и свой род, – да не на того напали: он ждал этого счастливого случая четырнадцать лет и не собирался его упустить. Тут наступало время для его коренной, как он считал, шутки. «Счастливый случай, он счастливый и есть: проморгай – и случаю настанет кончина». Эту шутку он повторял при каждом удобном случае.
А для его сына первая издевательская шутка судьбы – врожденное сходство с Генри Фондой – положила начало нескончаемой череде издевательских шуток, превративших его жизнь в горестное и унылое существование. Имя, данное отцом новорожденному, стало второй издевательской шуткой. О ней никто не знал, кроме его отца, пока сын не дорос до детского сада. При записи в детский сад имя открылось, и последствия были самые ужасные. Эта новость убила его матушку, которая потеряла волю к жизни, зачахла и скончалась, что очень воодушевило его отца, давно решившего жениться на кассирше из бакалейного магазина, если она по-прежнему будет проявлять строптивость, однако вовсе не уверенного, что ему удастся спровадить с фермы жену без приличного денежного пособия или хорошей взбучки.
Ребенок выжил, но с трудом. Известие, обрушенное на него взрослыми в столь нежном возрасте, пристукнуло его и навсегда ошеломило – известие, что он вовсе не Калеб Майер, как его звали с рождения и как он привык думать о себе сам, а какой-то совершенно неведомый ему Майер Майер Майер Майер, про которого у них никто никогда даже слыхом не слыхивал. Ребятишки-приятели – а их и раньше-то было немного – навсегда отшатнулись от него, с детства приученные сторониться чужаков, не говоря уже о чужаке, который много лет их надувал, выдавая себя не за того, кем был. Никто не хотел иметь с ним дела. У него стали заплетаться ноги и все валилось из рук. С робкой надеждой относился он к любому новому знакомству, но надежды его никогда не сбывались. Он отчаянно нуждался в друге, а поэтому был обречен на одиночество. Постепенно он превратился в долговязого, неуклюжего, чудаковатого и мечтательного юношу с застенчивым взглядом и неуверенной, легко расцветающей на нежных губах улыбкой, которая мгновенно усыхала при очередной неудаче или обиде.
Он слушался старших, которые терпеть его не могли. Он делал все, к чему они его призывали. Они призывали его семь раз отмерить, прежде чем отрезать, и он отмерял. Они призывали его никогда не откладывать на завтра то, что можно было сделать вчера, и он не откладывал. Они призывали его почитать отца своего и мать, и он почитал. Они призывали его не убивать, и он не убивал – до войны. Потом его призвали в армию, чтобы убивать, и он убивал. Он безропотно подставлял при необходимости другую щеку и неизменно поступал с ближними так, как ему хотелось, чтобы поступили с ним. Когда он творил милостыню, его левая рука не знала, что делает правая. Ни единого раза не упомянул он всуе имя Господа Бога своего, не пожелал жены ближнего или осла его. Он любил ближних и даже никогда не лжесвидетельствовал против них. Старшие терпеть его не могли, потому что он был вопиюще инаковерующий или дерзостно более правоверный, чем они.
Поскольку ему не удавалось хорошо пожить, он хорошо учился. В университете своего штата он занимался так серьезно, что гомосексуалисты считали его интеллектуалом, а интеллектуалы – гомосексуалистом. Он специализировался в английской истории, и это не прошло ему даром.
– Английская история? – разгневанно изумился сенатор их штата с густой серебряной гривой и сомнительной репутацией. – А почему не американская? Может, он думает, что она хуже других?
Незадачливый студент мигом переключился на американскую литературу, но ФБР уже внесло его в списки неблагонадежных. На захолустной ферме, которую он считал своим домом, жило шесть человек и шотландский терьер, причем пятеро из них, не считая терьера, оказались агентами ФБР. Вскоре они собрали на него достаточно компрометирующих материалов, чтобы сделать с ним все, что угодно. А угодно им было призвать его в армию рядовым – ничего лучшего они придумать не сумели, – где через четыре дня он стал майором, чтобы конгрессмены, у которых ни на что другое не хватало ума, могли бегать взад-вперед по улицам Вашингтона, округ Колумбия, с возгласами «Кто произвел новобранца в майоры? Кто произвел новобранца в майоры?».
А произвела его в майоры счетно-решающая машина фирмы «Ай-Би-Эм», с почти таким же благочестивым чувством юмора, как у его отца. Решив, что слово «Майер», повторенное к тому же четыре раза, – это просто ляпсус нерадивого писаря из призывной комиссии, который по небрежности исказил звание новоиспеченного офицера – майор, – а имя вставить забыл, она посчитала не слишком-то важным, как будет зваться человек, посылаемый на убой, и нарекла его воинским званием. Таким образом, урожденный Майер Майер Майер Майер машинально стал майором по имени Майор Майор Майор.
Когда началась война, он все еще был покладистым и послушным. Его призвали в армию рядовым, и он покорно подчинился. Его призвали перейти в летное училище, и он почтительно повиновался, а накануне, в три часа утра, уже безропотно месил босыми ногами ледяную грязь, стоя в строю перед здоровенным воинственным сержантом, который угрожающе сообщал новобранцам, что он может выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в своем подразделении и готов подтвердить слова делом хоть сейчас. Всего за несколько минут до этого новобранцев из его взвода растолкали подхватистые капралы и приказали им собраться у административной палатки. С неба лило. Новобранцы выстроились, где было указано, в гражданской одежде, которую надели на себя три дня назад, когда уходили в армию. Тех, кто немного задержался в своих промозгло-темных палатках, чтобы торопливо обуться, отправили разуваться, и теперь они стояли босые в ледяной, раздрызганной их ногами грязи под беспощадным взглядом воинственного сержанта, который утверждал, что может выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в своем подразделении. Им не захотелось с ним спорить.
Неожиданное производство одного из новобранцев в майоры тяжким грузом придавило воинственного сержанта к земле, потому что лишило его возможности выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в своем подразделении. Несколько часов предавался он, как Саул, горестным раздумьям, сидя на койке в своей палатке и не желая никого видеть, а его отборная гвардия из подхватистых капралов уныло стояла у входа на карауле, преданно охраняя горький покой уединившегося командира. Однако к трем часам утра сержант разрешил-таки свое мучительное недоумение, и новобранцы опять были грубо подняты со своих волглых коек подхватистыми капралами, которые приказали им собраться босыми возле административной палатки, где их уже поджидал, воинственно подбоченясь, повеселевший сержант, настолько распираемый желанием высказаться, что он весь извелся, пока они сонно ковыляли на очередное рассветное собеседование.
– Мы с майором Майором, – тем же угрожающим, что и накануне, тоном сообщил он, – можем выбить к такой-то матери дух из любого салажонка в нашем подразделении.
Офицерам тоже пришлось расхлебывать в этот день заваренную электронной машиной майорскую кашу. Как им вести себя с новоиспеченным майором? Относиться к нему пренебрежительно значило бы унижать майорский чин. А держаться с ним на равных было для них просто немыслимо. Однако им повезло: он послушно попросился в летное училище. Под вечер приказ о его отправке был готов, и на следующее утро, ровно в три часа, его грубо подняли с койки, воинственный сержант пожелал, чтоб дорога была ему скатертью, и он отбыл на самолете в Калифорнию.
Лейтенант Шайскопф побледнел, как беленая дерюга, когда перед ним предстал босой, с грязными ногами майор Майор. А тот был уверен, что его грубо растолкали в три часа утра для построения перед палаткой сержанта, и оставил носки с башмаками под своей койкой. Его гражданская одежда была замызганной и мятой. Лейтенант Шайскопф, который тогда еще не завоевал славу великого мастера маршировки, онемело содрогнулся, представив себе босого майора Майора среди курсантов своей роты на очередном воскресном параде.
– Немедленно отправляйтесь в санчасть, – с трудом обретая дар речи, проблеял он, – и доложите, что вы больны. Лежите там, пока не получите свое денежное довольствие, чтобы купить себе военную форму. И башмаки. Обязательно купите башмаки.
– Слушаюсь, сэр.
– Вы не должны говорить мне «сэр», сэр, – почтительно указал майору Майору лейтенант Шайскопф. – Вы ведь выше меня по званию, сэр.
– Так точно, сэр, выше. Но вы мой командир, сэр.
– Так точно, сэр, – согласился лейтенант Шайскопф. – Я ваш командир, сэр. Поэтому выполняйте мои приказания, сэр, чтобы не нажить неприятностей. Отправляйтесь в санчасть, сэр, и доложите, что вы больны. Лежите там, пока не придет ваше денежное довольствие, а потом купите себе форму, сэр.
– Слушаюсь, сэр.
– И башмаки, сэр. Купите башмаки при первой возможности, сэр.
– Слушаюсь, сэр. Будет исполнено, сэр.
– Благодарю вас, сэр.
Жизнь в летном училище складывалась у майора Майора, как и везде. Все от него хотели избавиться. Инструкторы постоянно уделяли ему повышенное внимание, чтобы поскорее сбыть его с рук. Не успев опомниться, он получил «крылышки» пилота и был отправлен в Европу – и вот там-то впервые неожиданно обнаружил, что судьба ему улыбается. Всю жизнь он страстно мечтал об одном – оказаться среди кого-нибудь своим, и на Пьяносе его поначалу приняли за своего. Общая боевая служба слегка стирает разницу в званиях среди военных, так что отношения между солдатами и офицерами неизбежно упрощаются и смягчаются. Люди, которых он почти не знал, бросали ему на ходу «Привет» и приглашали сыграть в баскетбол или сходить искупаться. Лучезарнейшие часы своей жизни провел он на баскетбольной площадке, где игра длилась иногда весь день и где победа была никому не нужна. За счетом никто не следил, а игроков на площадке собиралось от одного до тридцати пяти. Майор Майор никогда раньше не играл в баскетбол, да и вообще спортом не занимался, но его высокий рост и великий энтузиазм отчасти заменяли ему и природное проворство, и спортивный опыт. Он ощущал полнейшее счастье на этой колдобистой баскетбольной площадке, перекидываясь мячом с малознакомыми офицерами и солдатами, которых определил для себя почти друзьями. О счете во время игры никто не думал, ни побежденных, ни проигравших там не бывало, и майор Майор остро наслаждался каждым своим жирафьим скачком, пока туда не прикатил в день гибели майора Дулуса на своем ревущем джипе полковник Кошкарт и не отнял у него эту радостную возможность навеки.
– Вы теперь командир эскадрильи, – грубо рявкнул ему через придорожную канаву полковник Кошкарт, – да только ничего это не значит, не думайте, потому что вы будете просто значиться командиром эскадрильи, а значит, ничего это не значит, понятно?
Майор Майор давно уже изводил полковника Кошкарта, как постоянно ноющий зуб. Лишний майор в списке личного состава нарушал идеальный воинский порядок у него в полку, а это было на руку интриганам из штаба Двадцать седьмой воздушной армии, которых он уверенно причислял к своим врагам и соперникам. Полковник Кошкарт постоянно молил судьбу о какой-нибудь счастливой случайности вроде смерти майора Дулуса. Его уже окончательно допек лишний майор, и теперь наконец он мог от него избавиться. Назначив майора Майора командиром эскадрильи, он умчался в своем рычащем джипе так же стремительно, как приехал.
А майор Майор навеки выбыл из игры. Мучительно покраснев, он словно столб застыл на месте, не в силах осознать всю глубину своей беды. Потом обернулся к почти-друзьям на площадке, ища поддержки, но сразу же попал под обстрел тупо любопытных и угрюмо враждебных взглядов. Его прохватила дрожь стыда и тревоги. Через несколько минут игра, впрочем, возобновилась, но лучше ему от этого не стало. Когда он вел мяч, игроки перед ним расступались; когда требовал паса, все ему повиновались; когда мазал по корзине, никто не пытался перехватить мяч, пока он сам его не подхватывал. И ни единого слова вокруг – тишину нарушал лишь его собственный голос. На другой день все повторилось, а на третий он играть не пошел.
Да и в эскадрилье люди, будто по команде, перестали с ним разговаривать, но зато начали пристально разглядывать. Он ходил с опущенными в землю глазами и горящими от смущения щеками – отверженный, ненавистный, презираемый и злобно подозреваемый во всех смертных грехах. Однополчане, которые раньше едва замечали его сходство с Генри Фондой, теперь, казалось, только об этом и говорили, причем некоторые из них едко намекали, что за сходство-то он и назначен их командиром. Капитан Гнус, давно метивший в командиры эскадрильи, утверждал даже, что майор Майор на самом-то деле вовсе не майор, а Генри Фонда, но по лживости характера не желает в этом признаться.
Зачумленный майор Майор мучительно барахтался среди бесчисленных несчастий. Ничего ему не сказав, сержант Боббикс перенес его пожитки в просторный трейлер, где раньше жил майор Дулус, а когда майор Майор, запыхавшись, ворвался в штабную палатку, чтобы подать рапорт о краже личного имущества, молоденький дежурный капрал напугал его почти до потери сознания, вскочив на ноги и рявкнув «Смир-р-рна!», как только он появился. Майор Майор замер по стойке «смирно» вместе со всеми остальными, лихорадочно пытаясь сообразить, что за важная птица влетела следом за ним в штабную палатку. Напряженная тишина нескончаемо длилась, и они могли проторчать там, не смея пошевелиться, вплоть до Судного дня, если бы майор Дэнби, полковой штабист, заглянувший к ним примерно минут через двадцать, чтобы поздравить майора Майора с назначением, не вывел их всех из этого присмирненного столбняка, отменив приказ архидисциплинированного капрала.
Но муку еще того горше и страшней пришлось испытать майору Майору в офицерской столовой, когда лучащийся улыбчивыми морщинками Мило Миндербиндер повлек его прямо от входа в палатку, которая служила им столовой, к отдельно сервированному столику с вышитой скатертью и букетом цветов в розовой стеклянной вазочке под хрусталь. Майор Майор замер на мгновение от ужаса, однако не посмел протестовать под взглядами новых подчиненных и покорно смирился. А те и правда таращились на него во все глаза, даже Хавермейер чуть приподнял над тарелкой свою тяжелую, непомерно длинную нижнюю челюсть. В общем, майор Майор так и просидел до конца трапезы, съежившись от стыда, за отдельным столом. Еда напоминала ему раскаленные угли, но он безропотно ел, страшась оскорбить отказом кого-нибудь из кухонной обслуги. И только потом попытался выразить Мило Миндербиндеру свой протест, объяснив ему, что не хочет есть за отдельным столом. Но Мило сказал, что так дело не пойдет.
– Да почему не пойдет? – удивился майор Майор. – Раньше-то ведь все вроде было в порядке.
– Раньше вы не были командиром эскадрильи.
– Майор Дулус был командиром эскадрильи, а ел вместе со всеми; разве нет?
– Так то майор Дулус, сэр.
– А какая разница?
– Мне бы не хотелось, чтоб вы меня об этом спрашивали, сэр, – сказал Мило Миндербиндер.
– Может, дело в том, что я похож на Генри Фонду? – отважился спросить его майор Майор.
– Кое-кто говорит, что вы и есть Генри Фонда, сэр, – уклончиво ответил Мило Миндербиндер.
– Да ведь это же чепуха! – дрожащим от досады голосом воскликнул майор Майор. – Да и не похож я на него! А если и похож, то какая разница?
– Никакой, сэр. Об этом-то я вам и толкую, сэр. Просто вы не майор Дулус, вот и все.
Мило Миндербиндер был прав, потому что, когда в следующий раз майор Майор поставил на поднос тарелки с едой и попытался сесть за общий стол, его мгновенно остановила непреодолимая волна всеобщей враждебности, и он беспомощно топтался на месте, едва удерживая в трясущихся руках поднос, пока Мило Миндербиндер не спас его, безмолвно препроводив, окончательно смирившегося и ручного, к отдельному столику. Больше майор Майор не бунтовал и безропотно ел в одиночестве за своим столом, сидя спиной ко всем остальным. Они, как он был уверен, презирали его за чванство, считая, что, сделавшись их командиром, он стал есть отдельно по собственной воле. Никто теперь даже не разговаривал при нем в столовой. Многие ели исключительно в его отсутствие. И все вздохнули с явным облегчением, когда он перестал туда ходить, решив питаться у себя в трейлере.
А расписываться на официальных документах как Вашингтон Ирвинг он начал после появления первого обэпэшника, который пытался выведать, не известно ли ему, кто занимается этим в госпитале, что и подвигло его на следующий же день последовать тамошнему примеру. Ему давно уже обрыдла его новая должность. Он решительно не представлял себе, чего от него ждут в должности командира эскадрильи, если только начальство не считало, в чем он все же сомневался, что ему достаточно ставить фальшивую роспись на официальных документах да уныло слушать, как брякаются об землю подковы майора… де Каверли за палаткой командного пункта эскадрильи, где для майора Майора был отгорожен крохотный закуток. Он постоянно терзался мыслью о невыполняемых – и, возможно, очень важных – должностных обязанностях, тщетно дожидаясь, что они вот-вот проявятся сами собой. Он все реже, и только при крайней нужде, выходил из палатки, не в силах привыкнуть к пристальным взглядам со всех сторон. Иногда его одиночное заключение нарушал случайный офицер или солдат, посланный к нему сержантом Боббиксом по какому-нибудь совершенно непонятному для него делу, и он неизменно отсылал их обратно, чтобы сержант Боббикс распорядился очередной раз по своему многоопытному сержантскому разумению. Если какие-то поступки и ожидались от командира эскадрильи, то совершал их не он. Его мучило мрачное уныние. Порой он серьезно подумывал, не обратиться ли ему со своими горестями к капеллану, но тот был настолько обременен собственными невзгодами, что было бы грешно наваливать на него еще и чьи-то чужие. А кроме того, майор Майор вовсе не был уверен, что капелланы обслуживают командиров эскадрилий.
Да и про майора… де Каверли он тоже не был уверен. Майор… де Каверли постоянно отлучался – нанимать квартиры или иностранных рабочих, – а возвращаясь, занимался только тем, что швырял подковы за палаткой КП, стараясь набросить их на стальные колышки, специально для этого вбитые в землю. Майор Майор подолгу следил, как подковы смачно плюхаются на траву или с отрывистым звоном цепляются за стальные колышки. Часами глядя на майора… де Каверли, он немало дивился, что столь величественный человек не находит себе более достойного занятия. Иногда, впрочем, и у него мелькала мысль присоединиться к игре, но, поразмыслив, он решал, что швырять целый день подковы так же маятно, как ставить роспись майор Майор Майор Майор на официальных документах, да и царственная осанка майора… де Каверли внушала ему благоговейную робость.
Он часто думал об их взаимной субординации. Майор… де Каверли был в эскадрилье начальником штаба, но майор Майор недостаточно хорошо знал, кто по армейским законам главней – командир или начальник, – чтобы окончательно решить, кем считать майора… де Каверли: кротким командиром или строптивым подчиненным. Ему не хотелось спрашивать об этом у сержанта Боббикса, которого он втайне побаивался, а больше спросить было некого, потому что всех остальных он боялся еще сильней, и майора… де Каверли в первую очередь. Да и не только он: мало кто решался обратиться с чем-нибудь к майору… де Каверли, а один самонадеянный офицерик, осмелившийся притронуться к его подкове, свалился на другой же день в страшной пьяносской горячке, про которую ни Гэс, ни Уэс, ни даже доктор Дейника и слыхом не слыхивали. Всем было ясно, что это возмездие глупцу за самонадеянную наглость, хотя как оно сработало, никто толком не понимал.
Львиная доля документов, получаемых майором Майором, не имела к нему ни малейшего отношения. В большинстве из них то и дело встречались ссылки на прежнюю официальную переписку, которой майор Майор никогда не видел. Да в этом не было и нужды, потому что любая официальная инструкция непременно отменяла все предыдущие. Часто случалось так, что ему следовало одновременно расписаться на дюжине официальных документов, каждый из которых обязывал его не принимать в расчет все остальные. Ежедневно приходили многословнейшие реляции за подписью генерала Долбинга, неукоснительно начинавшиеся жизнерадостными поучениями вроде «Медлительность стремительно приближает нас к смерти» или «Халатность – сестра распутности».
Читая корреспонденцию генерала Долбинга, майор Майор чувствовал себя халатным покойником и старался избавиться от нее как можно скорей. Вообще, из официальных документов его интересовала только вялая переписка о несчастном лейтенанте, сбитом над Орвиетой через два часа после прибытия в эскадрилью, так что он даже не успел толком распаковать свои пожитки, оставленные на койке в палатке Йоссариана. Этот злосчастный лейтенант явился с рапортом о прибытии не к дежурному по эскадрилье, а в оперативный отдел, поэтому сержант Боббикс счел за благо отрапортовать начальству, что тот вовсе к ним не являлся, и по официальным данным он числился теперь как бы испарившимся среди бела дня в чистом небе – да и не без оснований. Но так или иначе, а майор Майор все же благодарил судьбу за проходящую через его руки официальную переписку, потому что сидеть с утра до вечера в своей служебной палатке и расписываться на документах не так муторно, как сидеть там с утра до вечера без всякого дела. Переписка давала ему хоть какое-то занятие.
Всякий документ, на котором он расписывался, неизменно возвращался к нему самое большее через пять дней с новым листком для его новой росписи. Однако документ этот становился толще отнюдь не на один листок, потому что между двумя листками с его уже поставленной и еще только ожидаемой росписью к нему были подшиты листки для всех других офицеров, которые должны расписываться по своей воинской должности на официальных документах. Майор Майор со страхом наблюдал, как самое обычное официальное письмо превращается в толстенный фолиант. Сколько бы раз он ни расписывался на документе, тот обязательно возвращался к нему для новой росписи, и вскоре он начал опасаться, что каждый из документов будет возвращаться к нему вечно. Но однажды, на другой день после визита первого обэпэшника, майор Майор расписался именем Вашингтона Ирвинга – просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Получилось неплохо, очень даже неплохо, и, разохотившись, он до самого вечера расписывался на всех официальных документах как Вашингтон Ирвинг, хотя и предполагал, что за это бунтарское, а главное, легкомысленное своеволие его ожидает суровая расплата. На следующее утро он явился в служебную палатку, с трепетом пытаясь предугадать, что же теперь случится. Но ничего не случилось.










