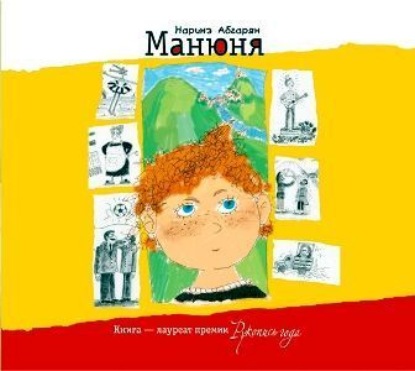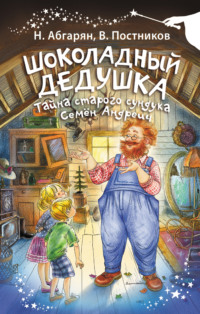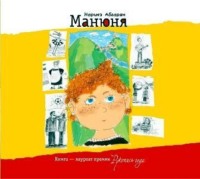Полная версия
Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения

Наринэ Абгарян
Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения
Действующие лица
Семейство Шац:БА. Иными словами – Роза Иосифовна Шац. Тут ставлю точку и трепещу.
Дядя Миша. Сын Ба и одновременно Манюнин папа. Одинокий и несгибаемый. Бабник с тонкой душевной организацией. Опять же однолюб. Умеет совместить несовместимое. Верный друг.
Манюня. Внучка Ба и Дядимишина дочка. Стихийное бедствие с боевым чубчиком на голове. Находчивая, смешливая, добрая. Если влюбляется – то вусмерть. Пока со свету не сживет – не успокоится.
Вася. Иногда Васидис. По сути своей – вездеходный «ГАЗ-69». По экстерьеру – курятник на колесах. Упрямый, своенравный. Домостроевец. Женщин откровенно считает рудиментарным явлением антропогенеза. Брезгливо игнорирует факт их существования.
Семейство Абгарян:Папа Юра. Подпольная кличка «Мой зять золото». Муж мамы, отец четырех разнокалиберных дочек. Душа компании. Характер взрывоопасный. Преданный семьянин. Верный друг.
Мама Надя. Трепетная и любящая. Хорошо бегает. Умеет метким подзатыльником загасить зарождающийся конфликт на корню. Неустанно совершенствуется.
Наринэ. Это я. Худая, высокая, носатая. Зато размер ноги большой. Мечта поэта (скромно).
Каринка. Отзывается на имена Чингисхан, Армагеддон, Апокалипсис Сегодня. Папа Юра и мама Надя до сих пор не вычислили, за какие такие чудовищные грехи им достался такой ребенок.
Гаянэ. Любительница всего, что можно засунуть в ноздри, а также сумочек через плечо. Наивный, очень добрый и отзывчивый ребенок. Предпочитает коверкать слова. Даже в шестилетнем возрасте говорит «аляпольт», «лясипед» и «шамашедший».
Сонечка. Всеобщая любимица. Невероятно упрямый ребенок. Хлебом не корми, дай заупрямиться. Из еды предпочитает вареную колбасу и перья зеленого лука, на дух не выносит красные надувные матрасы.
Генриетта. Вообще-то «копейка». Но по душевным качествам – золотой царский червонец как минимум. Вся из себя преданная, слова поперек не скажет. Усилиями обоих пап постоянно попадает в передряги. То в стадо коров въедет, то сальто-мортале в кювете крутит. И все это – без единого упрека. Не машина, а всепрощающий ангел на колесах.
Глава 1
Манюня – магистр наук, или Как банальный прострел может спасти от наказания
– Ба? А как умер Дарвин?
Ба схватилась за сердце. Резко села, нашарила очки. Спросонья нацепила их вверх тормашками и промычала что-то невразумительное в ответ.
– Чивой? – Манька приложила ладошку к уху и подалась вперед.
– Который час?
– Шесть часов утра, – звонко отрапортовала Манька, вытащила из-под мышки книгу, раскрыла на какой-то странице и требовательно уставилась на бабушку.
Ба с трудом разлепила глаза, глянула на часы.
– Мария, ты с ума сошла? Выходной на дворе, чего так рано проснулась?
Маня обиженно засопела:
– Так бы и сказала, что не знаешь, как умер Дарвин. Чего сразу про выходной говоришь?
Ба вздохнула, надела правильно очки, отобрала у Маньки книгу и уставилась на иллюстрацию. Со страницы на нее глядела толстая бородавчатая жаба.
– Это что такое?

– Это ядовитая жаба. Но я не про нее хотела. Просто здесь про эту историю картинки нет. Там написано, что одна оса ужалила паука. И паука парари… – Манька забулькала на «р», досадливо поморщилась, прочистила горло и по новой пошла на штурм сложного слова: – Палализовало!
– Парализовало?
– Вотэтовот! И лежал он такой, знаешь, совсем мертвый. Под кустиком. Но дышал!
– Ха-ха-ха!
– Ну чего ты смеешься? Ничего смешного тут нет! Наоборот, все страшно ужасно! И когда эта оса захотела утащить паука к себе в гнездо, деток кормить, Дарвин ее и поймал.
– Ложись рядом. – Ба подвинулась в сторону, отогнула край одеяла, похлопала рукой по простыне.
– Не буду я рядом ложиться! Ты снова начнешь меня тискать, а я поговорить хочу!
– Обещаю, тискать тебя я не буду.
– Поклянись!
– Клянусь! – Ба растопырила пальцы. – Видишь, я даже пальцы не скрещиваю.
Манюня с минуту сверлила бабушку испытывающим взглядом, потом кивнула, забралась под одеяло и громким шепотом продолжила:
– И чего я теперь думаю. Может, когда Дарвин привез эту осу к себе в… ну где он там жил, в домой…
– Домой.
– Ну да, в домой.
– Домой привез, а не в домой!!!
– Ба, ну чего ты! Домой привез эту осу! Так вот, жила она какое-то время в клетке, а потом Дарвин нечаянно просунул туда палец, ну поковыряться хотел, а она возьми и ужаль его? И он умер?
– Палализованный умер? – Ба, не выдержав Маниного наполненного трагизмом взгляда, зарылась лицом в подушку и разразилась своим фирменным смехом, периодически всхлипывая и причитая: «Ой, я больше не могу!» Манька раздраженно выдернула из рук бабушки книгу, сползла с кровати, нацепила тапки.
– Вот ты прямо как папа! Ему тоже скажешь чего научного, и он тут же начинает смеяться. И говорить «ой, я не могу», – передразнила она. – Не буду я вам больше ничего говорить! Я лучше Нарке буду рассказывать. Она, может, и сама не знает, от чего Дарвин умер, но хотя бы не смеется в ответ!
– А что же она делает, если не смеется? – взвизгнула между двумя приступами хохота Ба.
– Сидит рядом и молча смотрит. Понятно? Так что вот, пошла я к себе! А ты смейся дальше одна! – Манька шмыгнула носом, натянула высоко на грудь пижамные штаны, развернулась через плечо и, остервенело чеканя шаг, выдвинулась вон из комнаты.
– Ой-ой! Грудь моряка, попа индюка! – крикнула вслед Ба.
– Ни ой ни ой! Ни грудь ни моряка ни попа ни индюка! – не осталась в долгу Манька.
Ба утерла рукавом ночнушки выступившие слезы, полежала какое-то время, приходя в себя. Поднялась, затянула в короткий хвостик вьющиеся волосы. Подошла к окну и распахнула форточку. Комната мигом наполнилась холодным февральским утром – остро запахло талым снегом и влажной, разбухшей землей, промерзший рассвет робко золотил плечо дальнего холма, сварливо перекликались припозднившиеся утренние петухи.
– День будет добрым, – решила Ба.
Она переоделась, привела в порядок постель, накрыла кровать тяжелым простеганным покрывалом. Сложила в стопку книги на тумбочке, поправила ажурную салфетку на трюмо. Окинула довольным взглядом комнату – чистота! Тихо прикрыла за собой дверь и пошла вести переговоры с внучкой.
Манькина комната находилась между комнатами Ба и дяди Миши. Дядимишина спальня расположилась в самом конце коридора. Она замыкалась большой стеклянной лоджией, где дядя Миша хранил всякие свои инженерные штучки. Несколько проводов, металлических деталей и штепселей лежали в картонной коробке под столом. Ба каждую уборку сильно ругалась и вытаскивала коробку на лоджию, но через день-второй та волшебным образом снова оказывалась в комнате. Просто дядя Миша периодически делал какие-то открытия, увлеченно чертил схемы и собирал странные конструкции, на выходе смахивающие на покореженные после небольшого взрыва запчасти бензопилы «Дружба», поэтому коробка-выручалка должна была постоянно находиться под рукой. Мало ли, может, вдохновение обуяет тебя в три часа ночи, не идти же за проводами на морозный балкон! Ведь шаговая доступность запчастей – залог самых больших научных открытий!
Поэтому, чтобы уберечь нервы себе и окружающим, Ба отвела сыну дальнюю комнату. Так можно меньше раздражаться из-за бесконечного промышленного хлама, без которого сын не представляет своей жизни, да и не отвлекать его от разновсяких важных открытий. Дядя Миша самоотверженность Ба очень ценил, дома старался сдерживаться от безумных конструкторских порывов, а работу новоиспеченных устройств проверял на заднем дворе родного релейного завода. Сильно кручинился, что для экспериментов на предприятии не имеется бронированного помещения.
Но иногда его накрывал неконтролируемый творческий экстаз, в такие минуты дядя Миша забывал обо всем на свете и проверял действие своих устройств на дому. Два раза обошлось сущей ерундой – выбитыми пробками, один раз случился небольшой пожар, который наш неугомонный изобретатель потушил собственными новыми шерстяными брюками, а однажды включенная в розетку конструкция издала такой холодящий душу потусторонний вой, что от ужаса скрючило всю живность на многие сотни метров вокруг.
Манина комната была самой большой и светлой. Справа стояла широкая кровать темного дерева, в изголовье кровати – письменный стол. На стене висел большой бежевый ковер в шоколадный и темно-зеленый узор, в углу комнаты расположилось старое кресло. Слева от входной двери высился шкаф, где хранилась не только одежда, но периодически, когда нам хотелось напустить загадочного туману на нашу и без того богатую событиями жизнь, хранились мы. Хранились мы в шкафу с целью разобраться, можно ли распознать в темноте гримасу подруги или показать с лету, без унизительных ощупываний, где у кого нога, а где, наоборот, ухо.
К сожалению, или, может быть, к счастью, в шкафу мы обитали недолго, минут пятнадцать – двадцать, и всё потому, что существовать мирно в тесноте, да не в обиде категорически не умели. Поэтому чаще всего посиделки в темноте заканчивались тем, что мы с шумом вываливались на пол и устраивали сокрушительный мордобой, помогая себе вешалками и другими подручными средствами. На наши крики прилетала Ба, и следующие полчаса, угрюмо сопя и отсвечивая в пространство зудящими вывернутыми ушами, мы приводили в порядок Манин гардероб. Труд не только облагораживает, но и сближает, так что по ходу уборки мы обратно мирились, а к концу были готовы к новым, не менее захватывающим приключениям.
В течение дня Манька редко бывала у себя и даже домашнее задание норовила делать за кухонным столом – там ей было уютнее, да и Ба постоянно крутилась рядом и могла помочь в решении сложной задачи. В комнате моя подруга предпочитала спать и дуться. И если по какой-то причине ей хотелось высказать миру свое «фи», она прикрепляла магнитиками к металлической рамке на двери небольшой плакат с надписью «Вход запрещен» и закрывалась в комнате. Сегодняшнее утро явно заслуживало очередной Маниной протестной эскапады, поэтому, когда Ба пошла разговаривать с внучкой, она наткнулась на запертую дверь и плакат с грозным предупреждением.
– И чего? – спросила Ба в дверь. – Мне сюда совсем вход запрещен?
– Совсем! – мигом отозвалась Манька в замочную скважину.
– А если я извинюсь?
– Поздно извиняться! Надо было сразу!
– А если я оладьи сделаю?
– Все равно! – не дрогнула Манька.
– Не простые оладьи, а дрожжевые! Пышные-румяные!
За дверью сердито закопошились. Ба победно хмыкнула, встала руки в боки.
– Ладно, я пойду замешивать тесто, а ты пока думай.
– Мам, ну чего вы поспать не даете? – крикнул из своей комнаты дядя Миша.
– Да вот, твоя дочь чудит.
– И ничего я не чужу! – моментально огрызнулась Манька.
– Ну всё, я пошла. Как только надоест дуться – спускайся вниз. Я тебе расскажу, от чего умер Дарвин.
– А ты точно знаешь, от чего он умер?
– Точно знаю!
– Скажи? – Манькин любопытный глаз сканировал пространство через замочную скважину.
Ба наклонилась и поймала вороватый взгляд внучки за секунду до того, как та отпрянула от двери.
– А не скажу. Когда выйдешь – тогда и расскажу.
– Очень надо! – рассердилась Манька.
– Ну как хочешь, – засмеялась Ба и пошла вниз по лестнице.
На кухне она первым делом включила радио. Пока диктор, дребезжа лучом счастья в голосе, рассказывал, как пышно взошли озимые по всем полям нашей необъятной родины, Ба сердито ходила лицом и едко комментировала каждое его слово. Далее, под аккомпанемент трагических новостей о бедственном положении шахтеров боливийского департамента Оруро она распустила в теплом молоке дрожжи, чуть посолила, поставила миску с опарой на теплую батарею – чтобы быстрее расходилось. Пока дрожжи думали, Ба сбегала на задний двор, насыпала курам зерна, долила в поилку воды. Забрала четыре яйца, пятое трогать не стала – оставила в коробке. Потому что если забрать все яйца, то куры разбредутся по курятнику и будут нестись по углам вразброс.
Прибежала, морозная, домой, разбила в опару три желтка, добавила по столовой ложке сахара и растопленного сливочного масла, а также полчашки сметаны, замесила негустое тесто. Отдельно взбила в пышную пену белки, аккуратно ввела в тесто. Размешала деревянной лопаточкой, накрыла крышкой, завернула в теплое одеяло, поставила доходить. Растопила полпачки сливочного масла и взбила его со стаканом липового меда. Получился вкусный соус для оладий. Заварила в пузатом керамическом чайничке заварки, открыла банку клубничного варенья – дядя Миша не ел меда, из сладкого предпочитал только варенье. Довольная собой, села попить чаю. Прислушалась – наверху было тихо.
«Надо бы сходить посмотреть, что она там творит», – решила Ба, допила чай, ополоснула чашку и, стараясь не скрипеть деревянными ступеньками, поднялась на второй этаж. Первое, что бросилось ей в глаза, был густо исписанный неровными каракулями плакат. Ба поправила на переносице очки и подошла ближе, чтобы лучше разглядеть новые надписи. Манюня, конечно же, не ударила в грязь лицом и расцветила плакат очередными душевынимающего содержания воззваниями:
«ВХОД ЗАПРЕЩЁН ВСЕМ, КТО СМЕЁТЦА!
КОМНАТА!
КАПИТАНА КАРОЛЕВСКОГО ФЛОТА МАРИИ ШАЦ! МИХАЙЛОВНЫ!
МАГИТСРА НАУК. ЧЛЕНА КАРОЛЕВКОГО ОБЩЕСТВА 1845!
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1970 ГОД 11 НОЯБРЯ!
ГОД СМЕРТИ: НЕ УМЫРЛА, ЖИВАЯ»
Ба прыснула.
– Смеешься? – мигом засварливилась замочная скважина.
– Ну что ты! – закашлялась Ба. – Мне совсем не до смеха.
– Нравится? – оттаяла скважина.
– Очень нравится. А что такое тысяча восемьсот сорок пять?
– Где?
– А вот на плакате. Ты написала «член королевского общества 1845».
– Я не знаю, переписала из книжки, просто добавила свое имя. Теперь я капитан королевского корабля. И вход тебе сюда все равно запрещен.
– А чего же ты, капитан королевского корабля и магистр наук, без ошибок переписать не смогла?
– Где?
– А вот тут и тут, – Ба ткнула пальцем в плакат. – И еще вот здесь. Я лично три ошибки насчитала. Выйди, я тебе покажу.
– Не выйду! Ты ругаться станешь!
– Не стану я ругаться.
– А я говорю, что станешь!
– А я говорю…
Ба не успела закончить фразу, потому что дверь соседней комнаты с шумом распахнулась, и оттуда высунулся всклокоченный дядя Миша.
– Я так понял, в законный выходной мне таки выспаться не дадут?
– Пока не научишься правильно застегивать пижаму, точно не дадут! – парировала Ба. – Надо же было аж на две пуговицы промахнуться!
– Это потому, что я приблизительно застегивался, уже в темноте. А что тут у вас происходит?
Ба кивнула в сторону плаката:
– Да вот, моя внучка сегодня с шести часов утра на ногах. Обрати внимание на ее регалии – любой нобелевский лауреат обзавидуется.
Дядя Миша прищурился, чтобы разобрать Манины каракули.
– Магистр наук! Ну надо же! А почему вход в комнату запрещен?
– Потому что Ба смеется надо мной! – пропыхтела Манька.
– Ничего я не смеюсь! Я даже в полном восторге от твоей научной версии о смерти Дарвина.
За дверью воцарилась недоверчивая тишина.
– А что за научная версия? – шепнул дядя Миша.
– Пусть она сама тебе расскажет, – хихикнула Ба.
– Дочка, – постучался в дверь дядя Миша, – у тебя тут на плакате написано, что вход запрещен всем, кто смеется. Но я-то над тобой не смеюсь? Мне-то ты можешь открыть?
– Не могу, – прогудела Манька. – Ты будешь ругаться!
– Да не буду я ругаться!
– А я говорю, что будешь!
– А я говорю…
Ба какое-то время с благодушной улыбкой прислушивалась к перебранке родных, но вдруг всполошилась и напряглась:
– Одну минуточку! Мария, деточка, а ну-ка признавайся, что ты натворила? Ведь дело не в плакате, так? Ты зачем заперла дверь?
В комнате воцарилась гнетущая тишина, зато в замочной скважине с удвоенной скоростью заметался Манин глаз.
– Я же говорю, что будете ругаться, – заныла она.
Дядя Миша с Ба испуганно переглянулись.
– Не будем! Честное слово, – заверили они хором.
– Поклянитесь! – потребовала Манька. – Моим здоровьем!
– Клянемся твоим здоровьем!
– Я сейчас открою, только вы сразу не заходите, ладно?
– Ладно!
Сначала в двери закопошился ключ, потом послышался топот голых Маниных пяток. Когда дядя Миша с Ба заглянули в комнату, Манька уже летела к своей кровати. Она с разбега ввинтилась головой в подушку и притихла, выставив на всеобщее обозрение обтянутую в теплые пижамные штаны толстенькую попу.
– Чисто страус! – хмыкнула Ба и пошла штурмом на Маньку. Интерьер на предмет разрушений даже не просканировала – за годы жизни с Маней научилась безошибочно распознавать, в какой точке пространственно-временного континуума успела нашкодить ее неугомонная внучка. Сейчас интуиция подсказывала ей, что точка эта находится в том месте, где Маня прячет лицо.
– Показывай, что там у тебя, – потребовала Ба.
– Не буду! – прогудела Манька и сильнее зарылась лицом в подушку.
– Не зарывайся в подушку, дышать нечем, задохнешься!
– Ну и пусть!
– Сама напросилась! – Дядя Миша вцепился в пятки дочери и принялся их немилосердно щекотать. Манька взвизгнула, выгнулась дугой и выпустила подушку. Ба молниеносно выдернула подушку и одеяло. Зарываться лицом теперь было категорически не во что! Манька засопела, повздыхала, полежала еще какое-то время попой торчком, потом резко села и убрала ладошки с лица.
– Вот!
– Гхмптху, – громко сглотнули дядя Миша с Ба.
– Это я просто нарисовала, не пугайтесь, – успокаивающе замахала руками Маня.
– Как это не пугаться? – Ба наклонилась к внучке, чтобы внимательнее рассмотреть ей лицо. – Что ты с собой сделала, горе луковое?
Горе луковое виновато топорщилось в ответ густонакрашенными смоляными щеками.
– Я себе бороду нарисовала. Как у Дарвина. Фломастером.
– Чем???
– Фломастером. Черным. Чтобы быть похожей на капитана королевского флота. Ну чего вы так на меня смотрите?
Манька не зря беспокоилась. Папа с бабушкой глядели как два каменных изваяния. И если папа хотя бы иногда вздыхал и беспомощно моргал, то Ба совсем не двигалась. Она так и стояла, согнувшись пополам, прижимая к груди подушку с одеялом. Потом, спустя сотню лет, она моргнула, повернулась к сыну и, глядя ему куда-то в пупок, сдавленно простонала:
– Спину свело.
– Чего? – испугался дядя Миша.
– Спину, говорю, свело! – пророкотала Ба. – Сделай что-нибудь!
– Маня, принеси из аптечки тигровую мазь, – встрепенулся дядя Миша.
Пока Манюня летела на кухню за мазью, он помогал Ба улечься в кровать.
– Да что же это такое! – охала Ба, тщетно пытаясь растянуть хотя бы в тупой угол свое скрюченное буквой Г тело. – Что за напасть такая?
– Мария, – перевесился через перила лестницы дядя Миша, – нашла?
– Нет, – крикнула Манька, – в аптечке только бутадионовая мазь!
– Тигровую я в прошлый свой приступ извела, – простонала Ба.
– Могу сбегать к тете Вале, – предложила Маня.
– Одна нога там, другая тут, – крикнул дядя Миша.
Маня накинула на пижаму пальто, надела сапоги и выскочила из дому. Пока она бегала к соседям, дядя Миша принес с верхней полки антресолей специальную шаль из козьего меха. Эта шаль была неизменным спутником Ба во всех ее радикулитных делах. Ба пришила к одному концу шали пуговицу, а к другому – петлю, и в нелегкие дни, когда спину скрючивал приступ, обматывалась ею и торжественно застегивала на животе.
Когда дядя Миша примчался с шалью, Ба лежала на боку и мелко всхлипывала.
– Мам, ты чего, плачешь? – испугался дядя Миша.
– Ой-йе! – взвизгнула Ба. – Ой-йе, зиселе. Ты Маню к Вале послал, да?
– Ну да. А что?
– То-то Валя обрадуется ее бороде!
Конечно, не каждой соседке выпадает счастье наблюдать в раннее воскресное утро бородатого магистра наук и члена королевского общества 1845 Марию Шац Михайловну. Особенно если та врывается с воплем: «Тетя Валя, ой, тетя Мариам, здрассьти, а где у вас тигровая мазь?» – а у вас на руках, в это нелегкое для вашей психики время, спит маленький Петрос. Но по соседству с Ба слабохарактерные люди не выживают, поэтому закаленная тетя Мариам, не моргнув глазом, одной рукой выудила откуда-то из-за спины тюбик мази, а другой оперативно смочила в тутовке ватный шарик и протерла им Манино личико. Не сказать что борода от протирания сошла на нет, скорее подернулась акварельной дымкой, но зато пришпоренная спиртовым духом Манька покрыла обратное расстояние за считаные секунды.
Потом они на пару с дядей Мишей натерли Ба кусачей мазью, обмотали шалью и усадили на кухонный диванчик – руководить. И Ба, как заправский Кутузов, правда, с повязкой не на глазу, а на спине, командовала битвой под называнием «Один шлимазл спалил все тесто, а вторая закапала пол сладким соусом». И пока она ворчала, запивая обугленные оладьи сладким чаем, а дядя Миша хватался обожженными пальцами за мочку то одного, то другого уха, Манька, довольная тем, что радикулит Ба спас ее от наказания, каждые пять минут бегала в ванную – смывать бороду хозяйственным мылом. Борода со скрипом поддавалась, но местами держалась просто намертво! Отчаявшись, Манька даже попыталась протереть лицо кусочком пемзы, но тут же бросила эту затею – пемза, может, и отчищала, но вместе с бородой сдирала ещё и кожу.
К десяти часам утра, поднятый Дядимишиным звонком, приехал папа. Конечно, с большим скандалом, но ему таки удалось сделать Ба укол.
– Юрик, ты меня через одежду коли, какая разница! – клокотала Ба.
– Роза, если ты думаешь, что это первый женский зад в моей врачебной практике, то очень ошибаешься! – хладнокровно набирал в шприц лекарство папа.
– Лучше бы мы сына Газаровых позвали, – огрызалась Ба. – Он хоть и ветеринар, но повежливее тебя будет!
– А тебе лишь бы молоденьким мужчинам глазки строить! – не остался в долгу папа.
– Ну ты когда-нибудь уже сделаешь укол, или мне в такой двусмысленной позе Судный день встречать?
– Да я уже всё!
– Как всё? Совсем всё?
– Ну да!
– Юрик-джан, я так и знала, что у тебя не руки, а золото.
Над Маниной бородой папа сначала долго подтрунивал, а потом велел собираться.
– Повезу ее к нам, уж Надя придумает, чем фломастер смыть.
Мама первым делом нанесла на Манино личико густой слой детского крема.
– Чтобы кожа отдохнула, – объяснила.
Манька уже стерла часть своей бороды, поэтому ходила по дому плешивая, но жутко довольная. Мы с Каринкой сначала хотели ее на смех поднять, но потом передумали и сами намазюкались кремом – страдать, так хором. Потом мама протерла Манину бороду огуречным лосьоном и повела умываться в ванную. Два часа остервенелых косметических процедур – и мы получили нашу любимую Маньку обратно – такую, к какой мы привыкли. Чтобы смешная улыбка, пухлые щечки и боевой чубчик. Правда, боевой чубчик от перенесенных Маней очистительных испытаний немного поник, но в целом все равно выглядел непокоренным.
Кто бы сомневался!
Глава 2
Манюня выступает на отчетном концерте, или Оригинальный способ лечения боязни высоты
Один отдельно взятый, может и небольшой, но вполне убедительный прыщик на носу – это целое событие. Знаете почему? Потому что есть что предъявить миру, а особенно – этой противной Ангелине, у которой неизвестно откуда посреди тела выросла грудь. Грудь реально одна, второй еще нет, Ангелина растет в одну сторону, не иначе, но кого это утешает? Никого это не утешает, а уж меня с Манькой – подавно. Потому что Ангелину мы не очень любим. Прямо-таки недолюбливаем. Да что уж душой кривить, терпеть мы эту Ангелину не можем!
Сегодня показательное выступление учеников музыкальной школы. Актовый зал забит до отказа. Вообще-то у нас не очень большой актовый зал, всего на сорок человек. Но сорок человек – это тоже серьезно, особенно когда они уже расселись по деревянным скрипучим стульям и, в ожидании культурных потрясений, с интересом рассматривают лепнину на потолке и темно-зеленые бархатные кулисы. Кулисы тяжелые, волнистые, когда раздвигаются – громко шелестят, а в темноте отдают серебристыми бликами. Лепнина на потолке вся из себя нарядная, обильная, в мелкий вьющийся завиток.
В первом ряду на самом почетном месте сидит директор Мария Робертовна, строгая тетечка с усами и даже немножко бородой, если принять во внимание щедро торчащие из круглой родинки на подбородке волоски. Мария Робертовна «преподает скрипку». Манька жалуется, что совершенно невозможно играть на скрипке, когда рядом маячат усы и немножко борода Марии Робертовны.