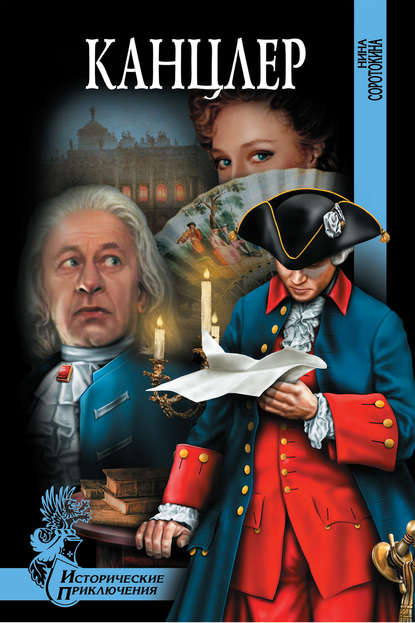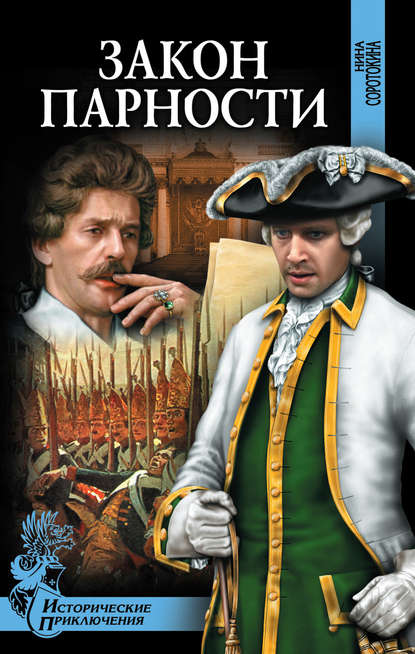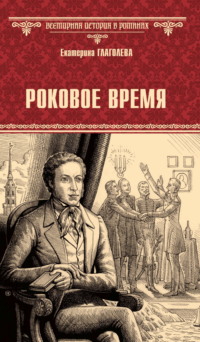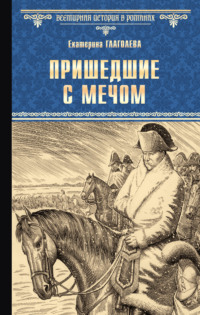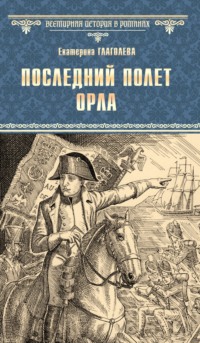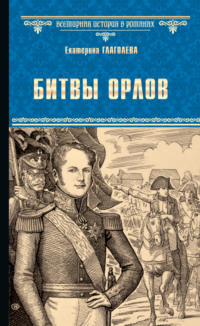Полная версия
Дьявол против кардинала
Как обычно, король лично участвовал в празднике: подобно канониру, он стоял на берегу с зажженным фитилем в руке перед батареей из шутих, многие из которых сделал собственноручно. Анна Австрийская и Мари де Люинь держались несколько поодаль. При каждом залпе они взвизгивали и затыкали уши, а потом радостно смеялись и хлопали в ладоши, глядя, как в синем вечернем небе рассыпаются золотые и серебряные брызги, как вертятся, шипя, «чертовы колеса». В момент затишья Мари приблизилась к королю и, прикрываясь веером, сказала ему игриво:
– Ваше величество, вы сегодня поразительно невнимательны к вашей супруге.
Людовик вскинул брови, а затем нахмурился, не понимая, откуда ждать подвоха.
– Вы совершенно не обратили внимания на букет, который она держит в руках, – продолжала Мари.
Людовик бросил быстрый взгляд на королеву, которая теребила букетик белых ирисов. Букет как букет. Что в нем такого особенного?
– Так вам не знаком язык цветов? – удивленно произнесла Мари, словно прочитав его мысли. – Ирис означает: «Я имею что-то вам сообщить».
– И ч-ч-что ж-же… – Как всегда, от волнения король начал заикаться.
– Подите и спросите сами. – Мари сложила веер и повернулась на каблуках.
Людовик подошел к Анне и взял ее за руку с букетом. Анна покраснела и потупила глаза, потом снова подняла их на мужа.
– Мне кажется, я теперь уверена… и врач подтвердил… у нас будет ребенок.
Король задохнулся от радости. Он схватил обе руки жены и стал покрывать их поцелуями. Букетик упал наземь и рассыпался. А потом в небо над Парижем взлетели пять, десять, двадцать шутих…
Подписав договор о мире с сыном, Мария Медичи не спешила с ним увидеться и отказалась ехать в Париж. Это невероятно тревожило Люиня: он предлагал встретиться на «нейтральной территории», например в Туре или Ангулеме, но получал уклончивые ответы. Тогда Люинь стал взывать о помощи к Ришелье, который, постепенно вводя в ближайшее окружение королевы своих ставленников и вытесняя оттуда «чужих людей», забрал над Марией Медичи прежнюю власть. Ришелье тоже не торопился: он ведь должен был «свершить чудо», а для чуда главное – верно выбрать момент. Наконец Мария ответила согласием на письмо Людовика с предложением о встрече. Местом королевского свидания был выбран Кузьер – замок, входивший в приданое Мари де Роган.
Спустился вечер, когда впереди показалась замшелая крепостная стена из темного камня. Ворота раскрыли, и карета королевы покатила по центральной аллее. Вот и замок: две круглые башни с коническими верхушками по краям скромного фасада. У крыльца стоял де Люинь со своим тестем, герцогом де Монбазоном.
Едва королева вышла из кареты, как Люинь бросился к ее ногам с пылкими уверениями в своей преданности.
– Ах, оставьте красивые слова ради правдивых, господин де Луинь, – с досадой сказала королева. Тут она вспомнила, что ей надлежит играть свою роль, и продолжала уже несколько иным тоном: – Я знаю, что вы всегда были порядочным человеком и что король, мой сын, никогда не находился в лучших руках; поэтому он прав, что любит вас, и я тоже люблю вас от чистого сердца. Я больше не хочу вспоминать о том, что произошло, как будто никогда и не разлучалась с сыном.
Люинь поднялся с колен, Мария сделала вид, что поцеловала его, но на самом деле лишь приблизила губы к его щеке, а затем прошла в дом, обменявшись полупоклоном с герцогом де Монбазоном. Люинь же поспешил доложить обо всем королю.
На следующий день, пятого сентября, Мария Медичи с утра отправилась в часовню при замке и жарко и истово молилась. Около десяти туда явился де Бренн и сообщил, что король ожидает ее. Королева поднялась с молитвенной скамеечки и поспешила к выходу.
Вдоль всей большой аллеи Кузьера стояла плотная толпа придворных. Королева шла, поддерживаемая под руки де Бренном и де Бетюном, позади следовали Ришелье и вся ее свита. Завидев Людовика, направлявшегося ей навстречу с другого конца аллеи, Мария сняла черную бархатную полумаску, которую носила почти постоянно, первой подошла к сыну и трижды поцеловала его: в губы и в обе щеки.
– Добро пожаловать, матушка. Мне жаль, что мы не увиделись ранее, ибо я давно ожидал вас, – произнес Людовик затверженную фразу.
Мария молча разглядывала сына. Они не виделись более двух лет. Подбородок ее задрожал, из глаз потекли слезы.
– Вы так похорошели, сын мой, – прошептала королева, сдерживая рыдания. – Так выросли, возмужали…
Что-то дрогнуло в душе Людовика, он крепко обнял мать и замер так, закрыв глаза, боясь прослезиться самому. Придворные же слез не скрывали; в руках у дам замелькали платочки, которые они то и дело подносили к глазам, кавалеры размахивали шляпами, отовсюду неслись восторженные возгласы, послышался хруст и треск: несколько человек, взгромоздившихся на старые вётлы и буки, полетели вниз, потому что под ними подломились ветки. Это происшествие всех рассмешило, слезы высохли, и королевская семья (Анна Австрийская, Гастон и обе принцессы тоже присутствовали при встрече) отправилась на завтрак.
За завтраком Ришелье так напрягал слух, силясь разобрать, что говорят меж собой Людовик с матерью, что у него разболелась голова. Он был зол на музыкантов, расположившихся со своими лютнями и виолами почти что у него за спиной, зол на придворных, которые громко переговаривались и смеялись. Люинь сидел напротив и, похоже, испытывал те же самые неудобства.
– Я сожалею о том, что произошло, – говорил тем временем король. – В будущем мы должны всегда хранить дружбу и согласие. Попробуйте цыпленка в маринаде.
Мария улыбалась и любовалась сыном.
Наверное, волны, которые мысленно посылал Люинь, дошли до короля: он принялся уверять королеву, что Люинь всегда был ей добрым и верным слугой, и он ручается, что и в дальнейшем его советник будет выказывать к ней почтение и послушание.
Музыканты остановились передохнуть, и в этом минутном затишье Ришелье расслышал просьбу, с которой Мария обратилась к сыну. Она просила кардинальской шапки… для архиепископа Тулузского, сына герцога д’Эпернона!
Кровь зашумела в висках у Ришелье. Такого он не ожидал. Хотя… Странно было бы удивляться коварству и неблагодарности: честность и признательность со стороны правителей достойны удивления в гораздо большей степени. Он с трудом дождался окончания завтрака, не поднимая глаз от стола, чтобы не встретиться взглядом с Люинем.
На следующий день Люинь, плохо скрывая торжество, объявил Ришелье, что король намерен ходатайствовать перед Святым престолом о кардинальском сане для архиепископа Тулузского и просит его – его! – написать представление. Ришелье молча поклонился.
Глава 6. Новые тревоги
Двор провел еще несколько дней в Кузьере, потом перебрался в Тур. Время проходило в пирах и развлечениях, но обстановку нельзя было назвать сердечной. Мария Медичи, никогда не отличавшаяся дальновидностью и чувством такта, очень скоро начала предъявлять свои требования: вернуться в совет. У нее было на это право: королеве-матери полагалось участвовать в заседаниях Государственного совета, однако у Марии никогда не достало бы скромности играть там иную роль, кроме первой. Она не смогла бы держаться в тени, как ее мудрая предшественница и родственница – Екатерина Медичи, вдова Генриха II. Людовик слишком хорошо помнил то время, когда его водили на помочах, а потому всеми силами избегал матери и целыми днями пропадал на охоте. Люинь был этому несказанно рад: он сам боялся, что король подпадет под материнское влияние, что уменьшило бы его собственное, и всячески способствовал их отдалению. Ришелье, напротив, досадовал и на королеву-мать, и на короля: Мария Медичи должна была стать для него посохом, опираясь на который он пришел бы в Париж, а вместо этого оказалась палкой в колесе его кареты. Люинь опасался умного епископа, чувствуя его превосходство над собой. Между двумя фаворитами завязалась скрытая, подковерная борьба.
Между тем Мария, предоставленная самой себе и раздраженная тем, что осуществление ее намерений откладывается на неопределенное время, вымещала досаду на невестке. Ни одного дня не проходило без мелких стычек, уколов и неприятных сцен. Анна, уже привыкшая чувствовать себя первой во всем, не желала уступать, в ней взыграла испанская кровь. Людовик оказался между двух огней. Один раз за обедом разгорелась особенно бурная ссора по поводу того, кто должен занимать почетное место рядом с королем. Анна была совершенно уверена в своей правоте, поскольку по закону первенство принадлежит царствующей королеве, Мария же со свойственным ей упрямством гнула свою линию. Поставленный перед необходимостью немедленно и самостоятельно принять решение, чего он терпеть не мог, Людовик озлобился, скрепя сердце отдал преимущество матери, после чего буквально выбежал из замка, вскочил на коня, свистнул собак и умчался в лес. Анна пошла к себе, выгнала всех служанок, бросилась на постель и разрыдалась. Людовик же до темноты где-то пропадал, так что Анна не находила себе места от тревоги и выслала на дорогу факельщиков.
Наутро король явился к матери, объявил, что немедленно уезжает в Париж, и спросил, ожидать ли ее приезда. Ах, вот как? Она, выходит, только гостья в доме своего сына? Слава Богу, ей есть где голову преклонить! Мария в Париж ехать отказалась. В тот же день Людовик вихрем умчался в столицу, за ним потянулся длинный кортеж со свитой. Спустя пару дней поезд королевы-матери неспешно отправился в Анже.
Узнав об отъезде, Ришелье мысленно выругался не подобающим священнику образом и проклял взбалмошную бабу. Но сделанного не воротишь: ему вновь пришлось последовать за королевой-матерью, удаляясь от Парижа.
Не доезжая Анже, их встретил дядюшка Амадор де Ла-Порт во главе пышного эскорта из десяти тысяч человек. Жители города выстроились вдоль улиц, по которым следовал королевский кортеж, и приветствовали его восторженными кликами, женщины махали платочками, высунувшись из окон. Мария повеселела и приосанилась. Однако впоследствии выяснилось, что почет и уважение – это все, чем могут услужить ей ее подданные, а городской арсенал оказался совершенно пуст.
Ришелье поселился поблизости от резиденции Марии Медичи. Довольно скоро он получил письмо от Барбена: несчастного советника наконец выпустили из Бастилии, давняя просьба королевы была удовлетворена. Барбен обращался к нему как к старому другу, сообщал, что положение его отчаянное, и просил выхлопотать ему местечко в свите королевы-матери. Ришелье послал ему немного денег и письмо, в котором дал понять, что в Анже его не ждут.
На Новый год король «лечил» золотушных в Лувре. Длинная вереница увечных, одетых в лохмотья людей, выставлявших напоказ свои сочащиеся или покрытые струпьями язвы, тянулась через двор в большую залу на первом этаже, где в другие дни устраивали балы. Людовик дотрагивался до них по очереди, произнося при этом: «Король коснулся тебя, Бог тебя исцелит». Это был древний обычай, обряд, который король совершал с раннего детства, так что уже привык к этой утомительной обязанности, избавившись от страха и брезгливости. Он даже отказался окунать руки в воду, где плавала кожура лимона. Людовик искренне верил в то, что делал, а потому совершенно не тяготился этой процедурой. Однако сегодня он выполнял все движения и шевелил губами машинально, поскольку мысли его были заняты совсем другим.
В декабре у Анны Австрийской случился выкидыш. Она очень сильно переживала, часто плакала, запиралась у себя в комнате и не хотела никого видеть. Людовик, как мог, пытался ее утешить, хотя, конечно, и сам был удручен. Теперь он и сам понял, что ему необходим наследник, чтобы упрочить свои позиции. Ситуация при дворе была далеко не безоблачной, а на горизонте, он чувствовал, опять собиралась грозовая туча. Летом Людовик сделал своего дорогого Люиня герцогом и пэром, затем – наместником в Нормандии, а с декабря – еще и губернатором Пикардии и соседних крепостей в Нидерландах. Непрекращающийся взлет фаворита вызывал откровенную враждебность у принцев крови и высшей знати, но король с упрямством, унаследованным, верно, от матери, продолжал ему покровительствовать. Кроме того, вернувшись в Париж после встречи с матерью, он велел освободить из Венсенского замка принца Конде, арестованного три года назад (не без участия Ришелье) за заговор против Кончини. Не ограничившись освобождением, Людовик выступил с заявлением о том, что Конде невиновен, всегда споспешествовал величию короля, а его арест был следствием дурных намерений тех, кто, злоупотребляя именем его величества, стремился погубить государство и его самого. Намек делался на самого Кончини, однако, как стало известно, королева-мать приняла его на свой счет и сильно разгневалась. Противники Конде при дворе сплотились в оппозицию Люиню, которому принадлежала мысль освободить принца. Люинь думал выслужиться перед знатью, а оказалось, навлек на себя гнев самых влиятельных людей: графини де Суассон, герцогов дю Мэна и де Лонгвиля, а также обоих Вандомов, сводных братьев короля, которые правили Бретанью. И если они все объединятся, то одними словами и подарками не отделаешься. Война? Что ж, ну и пусть. Повоюем.
…Шествие золотушных продолжалось уже несколько часов, король произнес сакральную фразу не менее четырехсот раз. В зале было душно, ноги затекли от долгого стояния, Людовик почувствовал дурноту. Стоявший поблизости придворный заметил, что король побледнел, подал знак, и слуга поднес чашу с вином, которым Людовик обтер руки и смочил себе виски. Придворный предложил закрыть ворота Лувра, но король помотал головой и продолжил обряд.
Первого января 1620 года в старом замке Сен-Жермен состоялось посвящение в кавалеры ордена Святого Духа, Великим магистром которого был сам король. Орден, принимавший в свои члены только представителей знатнейших дворянских родов и высшего духовенства, пополнился шестьюдесятью новыми рыцарями: Люинем и его друзьями. В ордене могло состоять не более ста человек, и кандидатам Марии Медичи было отказано.
Большая зала была ярко освещена. Король, в тяжелой парадной мантии, расшитой золотом и серебром, с голубой лентой через плечо и с орденом Святого Духа на золотой цепи, стоял на небольшом возвышении, покрытом ворсистым ковром с орнаментом из белых лилий. Рядом, на небольших подушечках, были приготовлены ордена для новых кавалеров: эмалевый крест с восемью шариками на острых концах, между лучами которого проглядывают золотые королевские лилии, а в центре изображен летящий вниз серебряный голубь – символ Святого Духа. Один из них, уготованный Люиню, был на золотой цепи, состоящей из чередующихся лилий и монограмм Генриха III, основателя ордена; остальные – на голубой муаровой ленте. Все это ярко сверкало в свете факелов. Вдоль стен выстроились придворные.
У дверей расположился небольшой оркестр. Когда скрипки заиграли, а гитаристы ударили по струнам, двери распахнулись, и в залу вошли будущие кавалеры. Люинь первым подошел к королю, стал на одно колено и склонил голову. Людовик произнес полагающееся случаю напутствие, Люинь поклялся верно служить королю, быть ревнителем веры и выполнять обязанности рыцаря Святого Духа, после чего король возложил на него цепь с орденом. Люинь отошел в сторону, и его место занял другой. Церемония продолжалась торжественно и размеренно, когда вдруг послышался слабый шум и женский вскрик: Анна Австрийская упала в обморок.
Королеву перенесли в ее покои, она пришла в себя, но чувствовала сильную слабость и не могла подняться с постели. К вечеру у нее начался жар. Врач сделал кровопускание, но больной не стало лучше.
Людовик велел отслужить молебен в часовне при замке, а сам всю ночь провел у постели жены, меняя влажный компресс у нее на лбу и поднося питье. Под утро он забылся в кресле у кровати.
Новый день не принес улучшения в состоянии больной: Анна отказывалась от лекарств и не принимала пищи. Людовик стоял перед ней на коленях, держа ее за руку, плакал, не скрываясь, при всех и умолял принять снадобье. Но Анна, казалось, не слышала его: она стала метаться по подушке, вскрикивать, бредить. Ей снова пустили кровь.
Людовик послал гонцов в Париж, чтобы отслужили молебны в Сент-Шапель и других церквах, помолился Пресвятой Деве в часовне, принеся Ей обеты, а затем снова пошел к жене. Два дня он провел у ее постели, а две ночи – на жестком неудобном диванчике в прихожей. Он сам почти ничего не ел и ни о чем не желал слышать; щеки его ввалились, под глазами залегли тени. На третий день королеве стало немного лучше: она забылась тихим сном, а проснувшись, скушала несколько ложек куриного бульона. Врач уговорил поесть и короля, и постепенно тот вернулся к делам, хотя по несколько часов в день проводил в комнате больной.
Так прошло две недели. Болезнь отступила, но Анна все еще не вставала в постели. Каждый день Людовик приходил к ней утром, справлялся о ее самочувствии, отдергивал занавеси и говорил, что в такой замечательный день, как сегодня, она непременно поправится. Анна слабо улыбалась. В обед Людовик приходил снова и уговаривал ее попробовать какое-нибудь блюдо, которое он сам для нее приготовил: «Съешьте кусочек омлета, ну пожалуйста, прошу вас, хотя бы чуть-чуть! А вот это миндальное пирожное! К вам сразу вернутся силы, как только вы его попробуете!» Однажды вечером, перед сном, Людовик пришел с гитарой и исполнил для Анны песню собственного сочинения, в которой говорилось о том, что ее красота затмевает солнце. Когда он кончил петь, Анна вдруг схватила его руку и стала покрывать ее поцелуями вперемешку с горячими слезами. Людовик тоже не сдержал слез, и они вместе плакали и смеялись, и целовали друг друга, и шептали нежные, глупые слова…
На другой день королева встала на ноги. Король велел отлить из золота лампады и изображения Мадонн и отправить их в церкви Нотр-Дам-де-Лоретт и Нотр-Дам-де-Льеж.
Близился час обеда, королевский стол был уже накрыт, рядом с ним стояли принцы крови и пэры. В буфетной, смежной с обеденным залом, собрались остальные придворные. Король запаздывал: он был у жены. Наконец он появился – мрачный, погруженный в свои мысли – и сел за стол, ни на кого не глядя. Принц Конде элегантным жестом подал ему салфетку.
– Позвольте! – неожиданно воскликнул молодой граф де Суассон. – Честь подавать салфетку его величеству по праву принадлежит мне.
Протянутая рука короля замерла в воздухе. Конде вспыхнул, но быстро овладел собой. Придворные загудели, негромко высказывая друг другу свое мнение по поводу того, на чьей стороне правда. На ровном месте разгорелась ссора.
Суассон горячился, Конде возражал спокойно, весомо, снисходительно. Суассоны состояли в родстве с Бурбонами, восседавшими на троне, Конде же сам мог претендовать на французский престол. Кому же, как не ему, подавать королю салфетку!
Людовик томился. Опять ему нужно сделать выбор – немедленно, сейчас. Причем совершенно ясно, что, какое бы он ни принял решение, он рискует нажить себе врага. Брошенная батистовая салфетка лежала на столе, точно яблоко раздора, а сам король выступал в роли Париса.
Мысль о Парисе оказалась удачной, поскольку подсказала выход из положения. Людовик сделал знак своему брату Гастону, и тот, наконец, передал ему злополучную салфетку. Обед начался.
Едва дождавшись его окончания, Суассон быстро вышел из залы. В тот же день он с матерью, а также герцоги де Лонгвиль, де Майен и д’Эпернон демонстративно покинули двор. Путь их лежал в Анже.
Глава 7. Война
Последние солнечные лучи цеплялись за коньки крыш, бессильно соскальзывая по листам шифера, заглядывали в окна из разноцветного стекла, выложенные аккуратными желтыми и красными ромбами. Ветер стих, наверное, прилег где-то вздремнуть. В городе воцарилась прозрачная тишина, кое-где вспугиваемая звонким стуком деревянных сабо по булыжной мостовой. Так мирно, покойно было кругом, что не хотелось ни о чем думать, ни о чем говорить.
Красные ромбы в окне жарко вспыхнули и постепенно погасли, как тлеющие угольки. Лица двух людей, сидевших в креслах друг против друга, медленно погрузились в полумрак. Так было еще удобней: не нужно думать, какое выражение себе придать. Один из собеседников, с худым, заостренным книзу лицом, тонким носом с горбинкой и проседью в русых волосах, прикрыл глаза, подперев голову рукой с изящными длинными пальцами, и сомкнул тонкие губы. Другой, широколобый, с окладистой, порыжевшей на конце бородой, в длинной грубой рясе и сандалиях, смотрел на него усмешливо, так, будто обладал способностью видеть вещи насквозь. Им незачем было много говорить, чтобы понимать друг друга, ведь в каком-то смысле Ришелье был альтер эго отца Жозефа.
Капуцин находился в Анже по поручению Люиня. Мать открыто готовилась к войне с сыном, и временщик, всеми способами стремясь избежать сражения, вновь обратился к епископу Люсонскому, призывая его употребить свое влияние на Марию Медичи для сохранения мира. До отца Жозефа здесь побывали и другие посланцы Люиня, которым Ришелье давал расплывчатые ответы. С ним же лукавить не имело смысла: все равно, что лгать самому себе.
– Почему, собственно, наш герцог так опасается военных действий? – напрямую спросил Ришелье отца Жозефа. – Во Франции не осталось такого места, которое не старались бы выкупить Люинь и его сторонники, а если не могут купить, отбирают силой. Они прибрали к рукам восемнадцать лучших крепостей, их полки стоят в провинции, они подчинили себе гвардию роту за ротой, легкая кавалерия короля – тоже их. Если бы вся Франция продавалась, они купили бы ее за счет самой же Франции.
Отец Жозеф усмехнулся:
– Можно купить солдат, но где купить доблести и отваги?»
Зато в стане королевы-матери воинственности было не занимать. Помимо обиженных герцогов и принцев, ее сторону на сей раз приняли и гугеноты, возмущенные поведением Люиня в его владениях. Шантелуб был готов в любой момент поднять мятеж и заявлял об этом так, будто вверенный ему Шинон был по меньшей мере вторым городом Франции. Одинокий голос Ришелье, взывавший о мире, тонул в шумном и гневном хоре. «Но что я могу один? Что? Что?»
Ришелье спохватился и открыл глаза: уж не произнес ли он это вслух? Фигура отца Жозефа окончательно растворилась в тени, однако из темноты донесся его напевный голос: «И сказал Господь: “Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “Перейди отсюда туда”, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас…»
– Вот и передайте от меня такой ответ господину де Люиню, – улыбнулся Ришелье.
Шум за столом совета усилился. Ришелье выждал некоторое время, затем сказал, не повышая голоса:
– Позвольте мне продолжать.
Голоса понемногу стихли, хотя герцог Майенский все еще что-то басил, обращаясь к своему соседу.
– Так вот, господа, – заговорил Ришелье, – поскольку силы у нас есть, и силы немалые, их надо не скрывать, а выставлять напоказ, чтобы устрашить противника и избежать необходимости пускать их в ход.
– Что? Бряцать оружием, не сражаясь? – насмешливо процедил Шантелуб.
– Вот именно, – спокойно ответил Ришелье. – Показать свою силу, чтобы не быть вынужденным прибегнуть к ней.
– Зачем же тогда армия? – недовольно проворчал герцог де Немур. – Да вы знаете, каких денег мне стоили фламандские наемники?
– Они при вас и останутся, – возразил епископ. – Но вы как будто забываете, господа, что мы находимся на земле нашего отечества, и наш противник – не иноземец, а наш король.
При этих словах ропот возмущения возобновился с новой силой. Все присутствующие, стараясь перекричать друг друга, высказывали свои обиды и претензии. Мария Медичи растерянно переводила взгляд с одного на другого, не зная, что ей делать. Ришелье был невозмутим.
«Ну и пусть, – думал он. – Пусть! Хотите показать, чего вы стоите? Мы скоро это увидим! Я принимаю вашу игру, господа! Каждый сам за себя».
– В таком случае, – возвысил он голос, привлекая к себе внимание, – в таком случае я предлагаю следующий план.
Шум смолк, все взгляды обратились на него.
– Закрепиться в Анже, провести переговоры с господами де Роганом и Ледигьером, чтобы они держали гугенотов наготове, с герцогом де Монморанси, который обеспечит нам поддержку в Лангедоке. Нормандия и Бретань и так у нас в руках.
Сидевшие за столом герцоги де Лонгвиль и де Вандом согласно закивали.
– И главное, господа, – быть готовыми выступить всем сразу. А для этого предлагаю утвердить единое командование.
Ришелье сел, показывая тем самым, что его выступление окончено. Пряча усмешку, наблюдал за собравшимися: несомненно, каждый прочил в главнокомандующие себя и ни за что бы не потерпел оказаться под началом у соседа.
– Я полагаю, – вступила королева, – назначить главнокомандующим господина Луи де Марильяка.
Снова шум, возмущенные возгласы. Мария беспомощно посмотрела на Ришелье, ища его поддержки. Марильяки – Мишель и Луи – были его протеже, которых он ввел в окружение королевы-матери. Лицо епископа было по-прежнему бесстрастно.