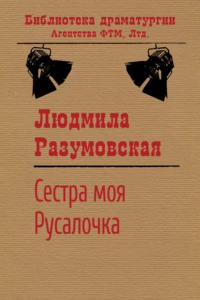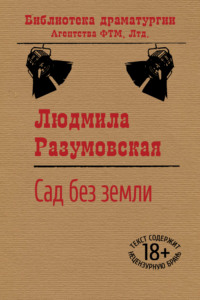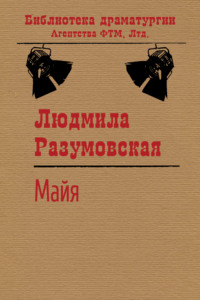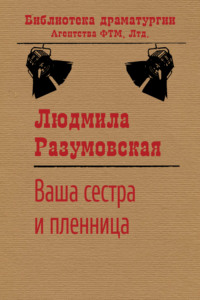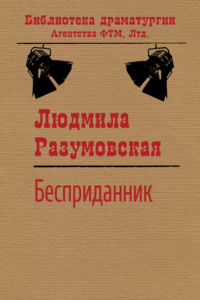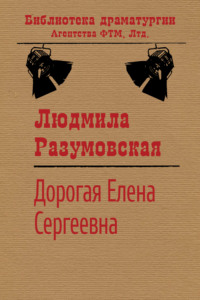Полная версия
Апостасия. Отступничество
– Ты что, брат, язык отморозил, молчишь?.. Да… только Наденька эта… Пожалуй, что у нее роман. С Михалычем. А жаль!.. Я бы на такой женился. А что? Ты не смотри, брат, что я молод… Ну да, молод. Независимости материальной нет. Матушка не благословит. Да ведь у нее папаша богатый. И, говорят, революционерам помогает… Нет, брат, у меня такое сейчас вот тут, – он показал на грудь, – жжение!.. Надо что-то начать делать, понимаешь? Срочно! Пока огонь в груди!.. Прокламации – что!.. Тут прокламациями не удовлетворишься!.. Слушай! – Его вдруг осенило, он даже приостановился. – А поехали-ка мы сейчас в заведение!.. К Катеньке!..
– Это куда? – наивно спросил Павел.
– А что? В самый сейчас раз! Ах какая девушка Катенька! Глаза – черная ночь! А зубы, брат!.. Мечта, а не зубы!.. Да и вся… А? Денег только… У тебя деньги есть?
– У меня… немного… – сказал, запинаясь, Павел, помня матушкин завет не тратить денег попусту, а только на необходимое.
– Что ж ты мне, брат, денег совсем не привез?.. – укорил брата Петр. – Я тут поиздержался… – Он хотел было сказать: на революцию, но постеснялся такой преждевременности, поскольку истратил совсем на другое. Самому же просить у матушки было стыдно. – Да она не так чтобы и дорого… рублик всего. А?..
В темноте не было видно, как покраснел Павел. Он готов был провалиться сквозь землю, не зная, что отвечать брату на его нисколько не стеснительное, бесстыдное предложение. Но брат уже понял его затруднение и засмеялся.
– А ты что, еще ни разу? Ни с кем? Ну, брат! Пора уже начинать мужскую жизнь. Нет, я теперь тебя даже и не отпущу так. Вот нарочно поедем. Я вот, знаешь, когда в первый-то раз? Хочешь, расскажу?
– Да… нет, – устыжался Павел. – Не надо.
– Ну так что? Поехали? Рубль всего… Дешевле нельзя. Да тут недалеко… Эй, извозчик! На Сенную!..
Извозчик привез их в недорогой, знакомый Петру публичный дом.
Увы, Катенька оказалась занята, и – как неудачно! – на всю ночь.
Петр потребовал другую девушку, только непременно чтоб «посвежее». Им привели двух, по виду вовсе не свежих крестьянских девиц, но отступать было нельзя. Петру ужасно хотелось, чтобы брат непременно сей же ночью стал мужчиной. Ибо революционер не может оставаться девственником, да и вообще… это не здорóво.
– Физиология! – шептал он брату. – Против природы никак нельзя. Потом сам мне спасибо скажешь. А если влюбишься? Как ты потом с ней сладишь? Опыт, брат, великое дело!.. Ну, которая тебе больше нравится? – великодушно уступал брату Петр.
Бедному Павлу, попавшему как кур во щи, не только никакая не нравилась, он с ужасом и содроганием смотрел на обеих и не понимал, зачем он здесь, что за экзекуцию хотят с ним провести и зачем. И как он будет давать ответ отцу Иоанну, у которого он исповедуется уже четыре года.
Затянувшиеся сомнения разрешил Петр.
– Вот эту – ему, – указал он на ту, что посимпатичнее. – А эту я беру. Как тебя зовут, милая?..
Нет, ни за что на свете не признался бы Петр младшему брату, что, несмотря на всю свою столичную высокоумную «прогрессивность», он сам все еще оставался девственником, а в заведение ходил исключительно для пропаганды революционных идей, чтобы и в падших душах пробудить жажду протеста против ужасных несправедливостей жизни и конечно же ненавистного, во всем виноватого царя, из-за которого они и должны теперь погибать во цвете лет.
Увы, бедный Петр не догадывался, каким злым насмешкам подвергают его героические увещевания все служители и служительницы древнейшей профессии, начиная от швейцара и заканчивая хозяйкой-мадам. Однако, что касается «мадемуазелей», девушки наперебой старались заполучить Петра, чтобы под звуки его убаюкивающих, назидательных песнопений вздремнуть часок, получив даровое отдохновение от своих трудов неправедных. Более всех везло черноглазой Екатерине, почему-то именно эту девицу избрал Петр для своего пламенного словоговорения. Девушке льстило внимание прекрасного студента, и она томно делала вид, что еще чуть-чуть – и окончательно разорвет цепи рабства для вступления в новую, светлую и такую же героическую, как у студента, жизнь. А Петр, вдохновленный ее поощрительными улыбками, горделиво считал себя едва ли не спасителем заблудших, и потому переходить к другим, более соответствующим этому заведению отношениям робел и даже считал кощунственным. Пусть другие, да вот хоть бы и его недалекий младший брат, живут, как все, маленькими грешками и страстишками, у них, избранных, соли земли Русской, настоящих героических аскетов, другая стезя – быть провозвестниками грядущего царства Свободы, ради которой он готов… готов… как Каляев… Тут он зажмуривался и, представляя скользкую, намыленную веревку на шее, вздрагивал, и непрошеные слезы жалости к своей загубленной молодой жизни вскипали в его голубых, как у мамочки, глазах.
4
Биография нижегородского миллионщика-купца Ивана Афанасьевича Перевозщикова была типичной. Дед – из волжских старообрядцев-крестьян – выкупился еще в сороковые годы прошлого, девятнадцатого века, промышлял щепным товаром, отвозил его вниз по Волге в Царицын и Астрахань. Отец стал владельцем буксира, после создал свой корабль с железным корпусом и паровой машиной, а под конец жизни выстроил у села Борки, что напротив Нижнего, завод по изготовлению теплоходов. Сам Иван Афанасьевич, получив университетский диплом, успешно приумножал отцовские капиталы; были у него десятки пароходов, склады, причалы, заводы, сотни десятин леса, целые селения.
Дела вел толково, с большими прибылями, привлекая двух старших сыновей к ответственному неленивому труду. Было их у Ивана Афанасьевича от двух браков восемь. Да пять дочерей. Первая жена умерла третьими родами. Долго не женился после того Иван Афанасьевич, любя и вспоминая покойницу. Наконец, после десятилетнего почти вдовства, женился на совсем почти девочке – дочери самарского купца-старообрядца Варваре. Вторая жена оказалась не хуже первой: души в ней не чаял Иван Афанасьевич. И пошли один за другим детки: крепкие, здоровые, краснощекие, – двоих только и схоронили за все годы.
Как и многие нижегородские богатеи (да большинство!), любил Иван Афанасьевич, памятуя Евангелие, благотворить, да так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Хотя как укрыться? Выстроил единоверческий храм, ночлежку для бездомных, дом призрения для вдов и сирот, две школы, больницу… да всего и не перечислишь. Всё на виду, все знают. А гордости ни-ни, страха ради Господня. Помнит Иван Афанасьевич крепко, от отца еще, от столетнего почти деда: не гордиться делами рук своих, ибо все доброе в нас – от Бога.
Вот и Горькому Иван Афанасьевич дает деньги. И многие ему дают. Как же не дать? Свой. Из самых низов. Нижегородский. А уже российская знаменитость!
В начале двадцатого века взошла звезда Алексея Максимовича. Встала высоко, горела ярко и своим сиянием чуть не заслонила все другие, даже и великие, звезды.
Горький привел в литературу новых героев. О ком писали прежние литераторы? Все больше баре да крестьяне. Из всей тысячелетней многосословной работной России только и нашел писатель двух достойных представителей: босяка да еще рабочего с прокламацией.
Ну ладно. Нравится тебе писать о босяцких, ничтожных людях – пиши. Не нравилось Ивану Афанасьевичу только то, что у нового великого писателя если купец, то непременно хищник и кровопийца, если хозяин, то дебошир и пьяница, если образованный, то ничтожество и недоумок, если барин… о барах Горький даже и перо марать не хочет, разве что барин из бывших, вроде Барона.
А общество весь этот подлог принялось жадно, взахлеб читать. А прочтя, поверило и умилилось. Вот они, новые люди, вызванные пером писателя со дна жизни, спасители России, ночлежники и поджигатели! «Разумеется, и они тоже, тоже, конечно, люди, образ и подобие, но почему же только они и есть люди? – недоумевал Иван Афанасьевич. – Почему же я – кровопийца, а вор Челкаш и – прости, Господи, – Мальва – они лучшие представители России? М-да…»
Пробовал было Иван Афанасьевич высказать автору свои недоумения. Мол, как же это вы, Алексей Максимович, понятие личного греха, что ли, совсем упраздняете? Так он такого в ответ нагородил: что верить надо в человека, в его разум, а лучше всего в коллективный разум, а для этого весь социальный строй перелопатить, и чем быстрее, тем лучше, ибо уже гроза на дворе и буревестник на подлете! Понял Иван Афанасьевич – разговаривать бесполезно, путаные люди. И сколько теперь таких путаников! И что они, эти путаники, запутают этак всю доверчивую Россию!..
Только вздыхал. А деньги все-таки давал. Тоже ведь и Горький по-своему благотворит, пускай. Революция?.. Да что они могут, эти бомбисты, неужели одолеют тысячелетнее царство, неужто за ними пойдет народ? Смешно!
А, видно, столичные господа все ж таки поверили Горькому о босяках и ночлежницах – выдвинули в академики. (Даром что революционер и по пяти тысяч в год на ленинскую «Искру» из своих доходов дает, так Саввушка Морозов и по двадцать четыре дает!)
Но вышел конфуз – царь высказался иронически и осмелился отказать. Общественность встала на дыбы. Как посмел? Да кто ты такой? В знак протеста отказались от звания почетных академиков Чехов и Короленко. Стасов, выдвигавший Горького, перестал посещать заседания Академии, а академик-математик Марков требовал отменить решение царя!
Больно уж знаменит стал кумир студенчества и всей передовой общественности, русской и иностранной, Алексей Максимович Горький, так знаменит, что вот и открыто проповедует: долой самодержавие! И не смеет царская охранка против него ничего сотворить. Как поднимется буря протеста аж от самой Испании до балтийских берегов и волжских разливов, так двери тюрем сами собой перед ним расступаются и выходит гордый Алексей Максимович, живой и невредимый, для дальнейшей борьбы. Да что Испания! Когда Горького посмели арестовать, все европейские знаменитости подняли свой голос в защиту писателя с требованием немедленно выпустить из тюрьмы. Что оставалось делать несчастному царскому правительству? Выпустили, испугались. Иди с миром, Алексей Максимович, продолжай свою борьбу не на жизнь, а на смерть против нас, супостатов, разве ж мы устоим против общественного мнения Европы? Да и своего тоже. И свое больно злобствует и язвит так, что и руки подчас опускаются защищать то, что общество требует уничтожить!
Да вот и с Саввой Морозовым (хоть и сильно нравился ему крепкий, умный, татарского вида русак) много спорил, не соглашался Иван Афанасьевич. Была у них, старообрядцев, обида на Романовых и на всю Церковь Никонову, застарелая обида, горькая. За гонения боле чем двухсотлетние, разорения жестокие да за клятвы церковные. Клятвы-то, оно, конечно, яростно с обеих сторон возносились, а расправы творились только царскими слугами, безо всякой пощады лилась кровь древлеправославная никонианами-«еретиками». И как ни распыляли их, по каким углам ни расшвыривали, а выжили, и веру сохранили, и нравственность соблюли, и работники на славу. Весь капитал почти российский у них, старообрядцев, ими Россия движется, их умом, их сметкой, их хваткой, их силой. Вытесняли они из экономики и немцев, и армян, и даже самих евреев.
Но как ни затаивалась подспудно обида на власть, а всею шкурой чувствовал Иван Афанасьевич – нельзя России без царя быть. Не разделял он Саввиных воззрений: путь европеизации лежит, мол, только через уничтожение монархии. Видел Иван Афанасьевич, как многие и из их среды хотели прорваться во власть. Экономическая сила новорожденной буржуазии все более вожделела власти политической. Историческая монархия для многих казалась отжившей, тормозом на пути прогресса. Как ни умен и даже ни блестящ был Савва, а – замечал Иван Афанасьевич – слишком горд и нетерпелив. Знал он и по своему опыту, что нетерпеньем много можно сотворить глупых дел, после не разгребешь. И это в своем частном деле, а тут – вся громада российская! И что же, вот так, в одночасье, долой царя? И что потом? Они думают, что верховная власть – это дорогая игрушка и любой болтун может ее захватить и присвоить иль миллионщик – купить и поиграть. А помазание-то Божие на что? Или и веры уже не стало ни в помазание, ни в Самого Бога?
Помнил Иван Афанасьевич, как злобно радовался Савва девятому января. Теперь, мол, революция обеспечена! Годы пропаганды не дали то, что достигнуто в один день! А что достигнуто? Сотня убитых да три сотни раненых. Да, говорят, первыми стали стрелять в солдат провокаторы из толпы. Вон прачки Авдотьи сын писал: не было у них приказа стрелять, уговаривало начальство народ мирно разойтись, а как поперла на них многотысячная толпа, готовая смести редкие солдатские цепи, да стали палить в них из пистолетов, солдаты и дрогнули – дали по толпе залп. Ох, прости, Господи! Своих ведь!.. А Горький потом в газетах, как всегда пафосно, распалялся о тысячах зверски убитых, и, конечно, все верили и с возмущением повторяли.
Падал престиж царя, за один этот день так упал, как и за всю позорную Японскую так не падал. (А может, этого и добивались отступники? Где теперь этот несчастный поп-провокатор Гапон и его сподвижник или наставник, как его… Рутенберг?) Не было на Руси такого ужаса, чтоб в безоружную толпу палить, в своих, русских, с хоругвями!.. А с другой стороны посмотреть – как же безоружную, ежели из этой толпы по солдатикам стреляли? И как же это царю к ним выходить, когда неизвестно, кто в этой толпе средь народа скрывается, – ведь и его могли б подстрелить, скольких уже бомбами своими проклятыми разорвали! Вот ведь дали же незадолго до девятого января во время салюта по царю залп от Биржи из настоящей картечи, когда на Крещенье крестным ходом к Неве спускались на иордань. Городового ранило, пулями стекла в нижнем этаже Зимнего повыбивало, чудом уцелел царь… Да-а, тяжела ты, шапка Мономаха, жалко Ивану Афанасьевичу царя. Ну и настало на Руси времечко: народ в царя стреляет… Да ведь не народ! Не народ это!.. А кто? Савва, Горький, Гапон, студенты… этот, Рутенберг, кто они? Они – народ? Они – за народ?.. Не разберешь. Ох, прав Савва, много достигнуто за один этот день. Одно прозвище царю – Кровавый, данное еще в тысяча восемьсот девяносто шестом, после Ходынки, с тех пор стало гулять по Руси, чего стóит!
Тут они сошлись, на почве революции, Савва и Горький. Сошлись близко, так близко, что пришлось Савве свою любимую актрису Горькому уступить. Ну это, конечно, не его, Ивана Афанасьевича, дело, так только, к слову пришлось… У него у самого с дочерью беда.
Захотела Надежда Ивановна на Высшие медицинские курсы в Петербург – отпустил. Что ж, время такое, что и женщинам образование подавай, пусть едет. А тут вдруг явилась домой. Брюхатая. Мать – чуть с ума не сошла. У них, старообрядцев, с этим строго. А тут… Скорбно стало Ивану Афанасьевичу и супруге его. Не о такой судьбе мечтали они для своей любимицы, да что делать? Хотел было по старой памяти поучить, да вовремя одумался. Дал денег да отправил назад в Петербург, пусть там рожает, подальше от знакомых людских пересудных глаз, а после, пожалуй, хоть и пришлет дитя, кто там у нее родится… усыновим. Варваре-то самой еще сорока годков нет. Там видно будет. Да вот и еще одна заботушка – надо теперь порченой девке срочно жениха искать!..
5
Мамочка Елизавета Ивановна была страшно удивлена, когда милый Павленька вернулся домой через три дня (собирался к брату на полторы недели!).
Что, как, почему? – беспокойно заглядывала она в прячущиеся глаза сына.
Нипочему. А просто… он болен.
«Как болен? Боже мой, да что же случилось? Чем же он болен? Да ведь надо врача!» – переполошилась Елизавета Ивановна.
Как ни отнекивался Павел, как ни убеждал мамочку, что ничего страшного, все само пройдет, Елизавета Ивановна вызвала-таки домашнего доктора. Осмотрев Павла и не найдя никаких признаков болезни, Федор Васильевич развел руками и прописал успокоительное.
– Возраст, знаете ли, уважаемая Елизавета Ивановна… романический… Пройдет, – уверял он Елизавету Ивановну. – Вы уж оставьте пока молодого человека в покое… Все пройдет, перемелется, – повторил доктор, принимая вознаграждение.
«Да что же перемелется? Чему же надо молоться? – по-прежнему недоумевала, теряясь в догадках, Елизавета Ивановна, однако по совету доктора не стала приставать к сыну с расспросами, а только вздыхала и тревожно вглядывалась в его лицо. – Уж не влюбился ли он там… в этом Петербурге? Кажется, доктор на то и намекал… Да когда же успел, за два-то неполных дня? Ох, малые детки – малые бедки…»
Получив вольную от расспросов, Павел все дни проводил теперь в своей светлой, уютной комнатке, стараясь не думать о том, что произошло в Петербурге. Он подолгу сидел у окна, выходящего в сад, и смотрел, как слепящее солнце выпаривает последние островки почерневшего снега, как звонко и радостно чирикают в луже воробьи, кап-кап, кап-кап – капают с крыши капельки под его окном, накапывая тоненькую ниточку ручейка с обнажившимися из-под снега маленькими голыми камушками. Вон старый их дворник Савельич вышел в сад обрезать деревья, вон заслуженный кот Мурзик, с разорванным в боевых драках ухом, пригнув спину, крадется к стайке воркующих голубей…
Бом!.. Бом!.. – раздается вдруг густой бас колокола Андреевской церкви, что чуть наискосок, вверх от их дома. И дверь его комнатки растворяется – на пороге мамочка с Глебушкой. Одетые. Солнечные зайчики пляшут на мамочкиной шляпке и на Глебушкином картузе.
– Павленька, мы ко всенощной, пойдем с нами.
Но Павленька не пойдет, Павленьке все еще нездоровится, Павленьке больно и подумать теперь о церкви, такой он великий грешник. И мамочка только вздыхает, и закрывает дверь, и крестит его за закрытой дверью.
Нет, в церковь он больше не пойдет. А… что же? А как же он теперь будет жить?
И как это у брата Петра все так легко получается и совмещается – и революция, и университет, и любовь к Наденьке, и посещение этих… ужасных заведений?
И он снова стал мучительно перебирать в памяти свой позор.
– Как тебя зовут, маленький? – спросила его та… как ее назвать… – девка? – когда его, ни жива ни мертва, затащили в комнату, где стояли одна большая кровать да маленький столик и пара стульев.
– Ну чего дичишься? Дичок. Братец твой шепнул: впервой ты. Правда, что ли? Дак это ничего, что впервой. Небось понравится. Сам будешь апосля к нам ходить. Как твой братец. Ну иди, поласкаю я тебя, маленького. Как маменька тебя ласкала. – И она стала расстегивать кофточку на груди.
Павел как сел на стул, так и приклеился намертво, не отодрать. И голос пропал. И хотел бы что сказать – язык не шевелится. С ужасом смотрел он на вывалившиеся большие груди рассевшейся на кровати как ни в чем не бывало здоровенной крестьянской девки, безо всякого стеснения задравшей ногу на постель и стягивавшей теперь чулок.
– Тебя Павлом зовут, знаю. А меня Настеной. Ну иди ко мне, дичок. Дичок – молодой бычок. – Она засмеялась. – Не бойся, чай, не съем я тебя. – Она уже улеглась на кровать, совсем голая, чуть прикрыв это место одеялом.
Как загипнотизированный смотрел Павел на покойно раскинувшееся, пышное, как взбитое масло, тело Настены, на ее толстые ляжки, большой белый живот, округлые груди с маленькими розовыми сосками – и не мог сдвинуться с места.
– Ну иди, что ль, поближе, поговорим… – лениво проговорила Настена. – Вот глупый. Деньги заплатил и сидишь. Мне – что? – Она сладко, во весь рот зевнула, прикрыла ладонью глаза и вдруг захрапела.
Павел вздрогнул. Настена заснула так внезапно и так, по-видимому, всерьез, что он, и без того сидевший статуей, совсем перестал дышать, боясь спугнуть ее сон, боясь, что она так же неожиданно проснется и опять начнется пытка блудным искушением.
Через час Настена заворочалась, стала натягивать (должно быть, замерзла) одеяло, протерла глаза. Увидев все так же безмолвно сидевшего на стуле Павла, она охнула и, привстав на постели, испуганно воскликнула:
– Ой матушки мои! Да что ж ты все так сиротинушкой и сидишь, миленький! – Она проворно вскочила с кровати и, бросившись к Павлу, затормошила. – Давай, миленький, скорей! Что ж ты… У меня ты, чай, не один…
Но Павел – откуда только прыть взялась! – взвился как ужаленный и, оттолкнув Настену, опрометью бросился вон.
Всю оставшуюся ночь он проходил по чужому, замерзшему, вымершему ночному городу, не разбирая улиц, шел и шел, куда вели глаза и ноги. Молчаливо и мрачно нависали над ним громады домов, и они казались такими же вымершими и пустыми, как улицы. Нигде ни огонька, ни свечечки в окнах. Жутко. А мороз пробирается под новенькую гимназическую шинель, горят уши, горят щеки, пальцы на руках и ногах немеют и болят от холода. Да ведь так можно и окоченеть! Побежал. Короткими перебежками с передышками добежал до показавшегося ему знакомым вокзала. Да это же тот самый, Николаевский, на который он сегодня утром… неужели сегодня? нет, уже вчера… приехал из Киева.
Здесь же, у вокзала, бросился к дремавшему в санях извозчику, сказал адрес. Через десять минут сонный дворник уже отворял ему ворота. Медленно поднялся Павел на шестой этаж, долго звонил и стучал в квартиру брата. Наконец Петр услышал и открыл дверь.
– Ты куда пропал? Отчего меня не подождал? Я уж Настену твою отругал, что она тебя так отпустила, дура-баба! – накинулся на брата Петр. – О-о! Да ты, я вижу, совсем заледенел… нос-то не отморозил?! Давай-ка сюда, к печке, грейся.
Павел в изнеможении припал к теплому кафелю.
Петр еще долго о чем-то говорил, ругал Настену, самого Павла, петербургские морозы, но младший брат уже ничего не слыхал, его страшно клонило в сон, он бы тут же, у печки, сейчас и упал и заснул, но Петр помог ему добраться до дивана и раздеться. Укрыл поверх одеяла полушубком и сам снова завалился досыпать в постель.
Встали братья далеко за полдень.
Петр, как ни в чем не бывало, в благодушнейшем настроении снова стал зазывать брата на очередное студенческое бдение, но потрясенный вчерашними похождениями Павел сказал, что устал и хочет вернуться домой. Петр был страшно изумлен и раздосадован. Он долго уговаривал брата остаться и даже стыдил и возмущался такой его нечувствительностью «к пульсу истории», но Павел оказался на сей раз к пресловутому «пульсу» абсолютно равнодушен и на все уговоры отзывался непреклонным молчанием.
Вечером пришлось вконец разобиженному Петру проводить несговорчивого брата на вокзал.
Тетрадочка со стихами так и осталась лежать в сумке сиротой.
Павел считал себя теперь навек опозоренным и недостойным общения не только с отцом Иоанном, но и с великим Поэтом.
Между тем отец Иоанн, обеспокоенный долгим отсутствием духовного своего чада, прислал записочку:
«Чадо мое дорогое! Слыхал я, Павлуша, от твоей матушки, что ты занемог. Молюсь за тебя, чадо. А и сам я лежу в немощи. Как поправишься, приходи, милый.
Твой молитвенник, многогрешный архимандрит Иоанн».
Ожгла сердце эта записочка. Батюшка родненький болен! А как прийти? Как взглянет он, скверный и нечистый, в праведные святые очи отца Иоанна? Нет, он погиб. Погиб безвозвратно. И… пускай!
А мартовское солнце так нестерпимо сияло, и синело, синело небо, словно звало его в свою ясную, небесную синь, и звенела капель, и ворковали голуби, и плескались в луже воробьи, и гаркали, свивая гнезда, вороны, и все радовалось жизни! И Павлу хотелось радоваться. Выскочить бы сейчас на улицу, помчаться по кривому, мощеному спуску вниз, вниз к Подолу, где лепятся в разбросанном беспорядке дома-домики в палисадничках-садах и стоят себе вековые, милые, излюбленные церквушки!.. Но он никуда не выходит, сидит в своей комнатке, как в тюрьме, ни с кем – ни слова. И мамочка плачет, а отчим Тарас Петрович хмурится: что это за «болезни» такие пошли? Глупость одна, всыпать бы розог! Да ведь с его убеждениями – какие розги! Недемократично!..
Не выдержала матушка.
– Что ж ты, Павленька, к отцу Иоанну не идешь? Ведь плох батюшка. Все тебя ждет-вспоминает!
О-о! Как ноги-то заплетаются, не идут!
По-ше-ел… Вот мука-то! Вот она какова, тягость греховная! Идет Павленька, словно сто пудов на себе волочет.
Постучал в келейку. А уж старец руки распростер:
– Свет ясный, Павлуша!..
А Павел бухнулся, пряча глаза, в ноги. Заплакал.
Гладит его по головке старец, гладит, шепчет:
– От юности моея мнози борют мя страсти… Ничего, Бог простит, ничего… – вздыхает, и слезки у самого капают… – Ничего…
«И откуда это он все знает? – думает, содрогаясь в рыданиях, Павел. – Все, все ему открыто… Все ему Бог открывает…»
И, уже успокаиваясь после старческой ласки, перестает всхлипывать и чувствует, как легкая радость прощения и отпущения ложится на сердце весенним ковром распускающихся цветов…
6
В июне месяце родила Наденька сыночка. Ах как хотелось ей назвать его в честь отца – Натаном! Да кто ж окрестит младенца таким именем! И родители что скажут? А как же назвать? Да вот Иваном и назвать, – присоветовала маменька Варвара Ильинична, приехавшая в Петербург уговаривать дочь вернуться домой и по-людски начать жить. Грех-то – что делать? – покроем. А уж у отца Ивана Афанасьевича есть на примете для Наденьки жених, раскрасавец и человек добрый.