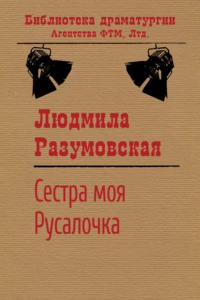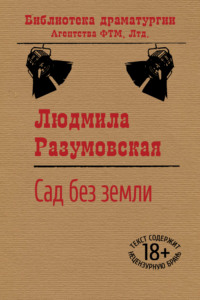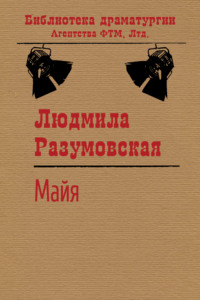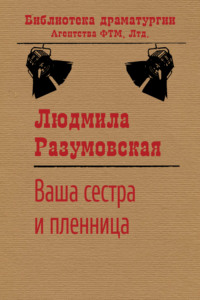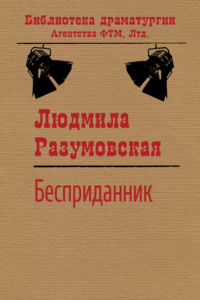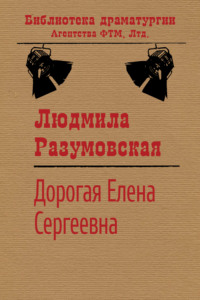Полная версия
Апостасия. Отступничество
Глебушка высовывал голову из рукава, и мама прижимала его к груди, и целовала его глазки, и лобик, и щечки, и шептала заветное:
– Рюрикович мой…
На лето вся семья выезжала в Белгородскую губернию, в небольшое именьице Елизаветы Ивановны, доставшееся ей в наследство от покойного первого мужа. Густые широколиственные дубравы, извилистая, неглубокая, с песчаными отмелями река, где водились отменные раки и караси, разнотравье пышно цветущих лугов с мирно пасущимися стадами, деревенские мужики и бабы, попадавшиеся навстречу, почтительно кланяющиеся господам, добродушно-веселые и довольные, – вся эта умиротворяющая картина сытой, спокойной жизни смиряла на время неукротимо-революционный дух Тараса Петровича. Он любил гулять по живописным окрестностям, любил сидеть с удочкой на ранней зорьке, а вдоволь нагулявшись, «намоционившись», как сам говорил, еще больше любил, как и всякий малоросс, хорошо покушать, пропустив стаканчик-другой местной горилки и закусив чем Бог пошлет.
Бог посылал много. Основательная еда требовала основательного послеобеденного отдыха. Дневной зной смаривал и малых, и старых; на два часа жизнь в профессорском доме замирала.
Вечером принимали гостей или сами отправлялись к соседям. У молодых – игры, танцы, забавы, начинающиеся романы, у стариков – милые ворчанья и невинный преферанс. О политике почти не говорили, при таком патриархально-благодушном житии желчь успокаивалась и душа настраивалась на лирический, мирный лад.
Но вот наступал август, близился конец райского отдохновения, и вместе с приближающейся осенью в груди Тараса Петровича снова вскипали революционные страсти. Он возвращался в Киев с новыми силами, готовый по первому кличу вступить в бой с ненавистным режимом.
2
Старший сын Елизаветы Ивановны, Петр, с грехом пополам сдал экзамены за второй курс Петербургского университета и делал вид, что учится уже на третьем. Учиться было совершенно некогда, «одна, но пламенная страсть», отнюдь не к медицине, владела умом и сердцем юного студента: Петр Николаевич в ближайшем будущем мечтал окончательно перейти в профессиональные революционеры.
Разумеется, эта прекрасная сама по себе цель засияла пред ним не сразу. После окончания гимназии он вполне осмысленно пожелал стать земским врачом, чтобы «приносить пользу народу», но, окунувшись с головой в столичную жизнь, наконец понял, в чем состоит эта польза: вовсе не в том, чтобы лечить и учить, как думало передовое студенчество еще лет тридцать тому назад, а чтобы… Да, да, именно так, как дома постоянно проповедовал отчим, – чтобы сбросить ненавистный царский режим, и уж тогда!.. Тогда должно непременно воссиять на земле солнце правды. Только тогда, по мысли народолюбцев, мужик и помещик, рабочий и его хозяин облобызаются и обнимутся навеки!.. Впрочем, если буржуи не захотят все отдать и немедленно облобызаться… «Ужо тебе!..» – повторял он вслед за отчимом классическую угрозу, поскольку в гимназии учился хорошо и тоже читал Пушкина.
Ранним морозным утром пятого февраля тысяча девятьсот пятого года девятнадцатилетний Петр бодро шагал по Загородному проспекту в направлении Николаевского вокзала в превосходном настроении. Он шел встречать с поезда младшего брата Павла, которого он в силу своего просвещенного старшинства и полуторагодовалого революционного опыта считал своим долгом «развивать».
Несмотря на разницу в возрасте, братья дружили. Павел, в отличие от своего бурнокипящего, «буревестного» брата, имел характер мирный и созерцательный. Он любил читать книги по русской истории, любил уединение, природу и, что самое странное, любил молитву. Молился он втайне, всячески скрывая эту любовь от брата и отчима, зная, что брат к религии равнодушен, а отчим, несмотря на свое происхождение, ревностный атеист. На письменном столе Тараса Петровича на самом видном месте давным-давно поселился бюст фернейского старца, насмешника и вольнодумца, бросившего в мир крылатую фразу «Раздавите гадину!» (имея в виду Церковь), но построившего тем не менее перед смертью часовню с такой умонепостигаемо-горделивой надписью: «Богу от Вольтера». Как видно, равенство Вольтер понимал весьма широко.
Только матушка разделяла Павлушенькину любовь, веру в Бога. И частенько, когда Тарас Петрович уходил на службу, они отправлялись в Киевские Печоры поклониться святым отцам – основателям лавры Антонию и Феодосию и другим удивительным старцам Древней Святой Руси. С упоением читал Павел Киево-Печерский патерик, а житие Марка-гробокопателя приводило его в такое умиление и духовный восторг, что он готов был все бросить и бежать на край самого пустынного света для свершения подвигов.
Павел ехал в Петербург на каникулы повидаться с братом и еще (это уже скрывая от всех) – познакомиться с Блоком (!). Ни одна на свете душа (включая матушку) не знала о его давней и тайной страсти к стихосложению. Вот уже несколько лет он писал метафизические, по его собственному определению, стихи, никому не показывая, страшась постороннего (а вдруг разгромного?) суда и предпочитая мучиться неопределенностью в вопросе о наличии или отсутствии таланта. И только от своего кумира, как от высшего судии, он мог бы безропотно и с благоговением принять страшный приговор: быть ему поэтом или не быть.
Он вез с собой тоненькую тетрадочку старательно переписанных, лучших, по его мнению, стихов, которую он намеревался передать Поэту. Но когда в воображении своем он представлял, как позвонит в дверь и на пороге пред ним предстанет… сам Блок, ему становилось дурно и страшно. Ноги, и руки, и все внутри начинало дрожать, и он с ужасом понимал, что вряд ли сумеет преодолеть свою робость и отважится переступить порог блоковского дома.
Поезд прибывал рано утром, и Павел боялся, как бы Петр, любивший поспать, не опоздал его встретить. Выйдя из второклассного желтого вагона, он уже десять минут стоял на платформе, ежась от холодного ветра, озираясь по сторонам и выглядывая брата.
– Павел! – замахал красной от мороза рукой (вчера где-то потерял перчатки) Петр.
Они обнялись.
– Здóрово, что ты наконец приехал! Я тебя давно поджидаю! Как наши?
– Все хорошо, – отвечал, улыбаясь, Павел. – У нас тепло. Мама просила тебя поцеловать. И еще велела спросить, отчего ты им редко пишешь.
– Писать некогда! – отмахнулся Петр. – Тут, брат, не до писем! Сам увидишь. Тут, брат, такие дела делаются! Историю творим! Ты же у нас любитель… читать историю. А мы ее делаем! Превеселое занятие, доложу я тебе! – Он рассмеялся. – А как Тарас Петрович?
– Бунтует, – все еще улыбаясь, сказал Павел. – Поздравил японцев со взятием Порт-Артура…
– Да ну?!. Вот это по-нашему! Молодец! Люблю старика!
– Наша гимназия тоже отличилась. Устроили демонстрацию с лозунгами «Да здравствует Япония, долой самодержавие!».
– Отлично! А что полиция?
– Разогнали…
– А ты?
– Нет, я не ходил. Мне даже бойкот хотели объявить.
– Вот это ты напрасно! Сейчас нельзя против народа… И что? Объявили?
– Да нет, сказали, на первый раз прощают.
– Ну ладно, пошли. На извозчика денег нема. Да тут недалеко. Лишний диван имеется. А вечером познакомлю тебя с товарищами! – И он повел брата к себе на квартиру.
Петр снимал комнату на Коломенской вместе с напарником, находившимся как раз в отъезде, отчего и оказался свободным диван. Комната была на седьмом этаже, длинная и узкая, обставленная случайной мебелью, впрочем, довольно чистая. Окно выходило в такой же узкий и темный двор и упиралось в глухую стену противоположного дома; похоже, солнце никогда не заглядывало в этот каменный мешок, напоминавший то ли тюремный двор, то ли гигантский колодец (подобные петербургские дворы так и назывались – колодцами).
Павлу представился их небольшой киевский двухэтажный особнячок, одной побеленной частью выходивший прямо на Андреевский спуск и красивую Андреевскую же церковь, а другой – в старый, с древними каштанами, розами и сиренью сад, где проживало все небольшое семейство Тараса Петровича с кухаркой, горничной и старым дворником Савельичем. Он поневоле вздохнул и печально посмотрел на брата.
– Ерунда! – воскликнул Петр, уловив его смущение от увиденной за окном картины. – Все эти ваши… канарейки – одно мещанство! Пойми, брат, есть высшие цели, которыми живет передовое человечество, и мы обязаны следовать в его фарватере! Скажу тебе по секрету… нет, лучше потом. Сперва ты должен проникнуть в наши идеи! Конечно, в Киеве тоже есть люди, хоть бы и Тарас Петрович, но Петербург, доложу я тебе, это… мозг! Сила! Тут, брат, такие умы собрались! О, мы еще покажем себя!
– Да что же вы хотите такого сделать особенного? – не выдержал Павел.
– Как что?! – закричал Петр. – Революцию!
– Зачем?
– Ну, брат… не ожидал, – обиделся вдруг Петр. – Да ты еще совсем младенец! Тебя еще надо молочком питать, а не твердой пищей! Ничего, я теперь тобой займусь. Ты куда решил поступать? Поступай к нам. Все, брат, главное произойдет здесь, запомни. Если хочешь на передовой линии…
– Петя, я бы чаю хотел… Есть у тебя чай?
– Вот болван! – хлопнул себя по лбу Петр. – Как это я не подумал! Нет, Паша, чаю у меня нет… а пойдем-ка мы с тобой, брат, к Михалычу! У него там и чай, и всё. А чего дома сидеть? Ты же не чай сюда пить приехал, верно? Я тебя сейчас с лучшими умами… Пошли!
– А кто такой этот Михалыч? – спросил Павел, когда они спускались с лестницы.
– Это, брат, такой выдающийся человек!.. Я тебе только одно скажу, – понизил голос Петр. – Он нелегальный! С каторги бежал!
– А за что же его на каторгу?
– За политику, за что же еще? – снисходительно объяснял Петр. – Все каторжане – политические. Ну есть, конечно, и уголовные… но мало.
Они снова вышли на Коломенскую и пошли по направлению к Лиговскому проспекту. Со всех сторон уже неслись крики мальчишек-газетчиков. Они размахивали свежими номерами петербургских газет и что есть силы вопили на все лады:
– Убийство великого князя Сергея!
– Бывший московский губернатор убит!
– Бомба Каляева разорвала великого князя!
Павел остановился и с тревогой поглядел на брата.
– Дай газету! – подскочил Петр к косоглазому мальчишке и, роясь в карманах, спросил Павла: – У тебя есть мелочь?
Павел заплатил за газету.
– Вот! – ликующе произнес Петр, потрясая газетными листами. – Началось! Это сигнал! Теперь пойдет писать губерния!
– Чему же ты радуешься? – спросил Павел. – Убийству?
– Ты ничего не понимаешь! Царский сатрап! Устроил в девяносто шестом Ходынку! Пять тысяч трупов! Или даже пятнадцать!.. Ничего, ничего, брат… я тоже сперва ничего не понимал. Такой же, как ты, был, болванчик… Пойдем скорее, обрадуем Михалыча, он, поди, еще не читал… Это же надо отметить! – И они, ежась от морозца, быстро зашагали по вычищенным дворниками улицам к дому беглого каторжанина.
Между тем Михалыч уже давно был в курсе и при газетах. Новость с быстротой молнии облетела город, и к беглому каторжанину один за другим стали собираться господа студенты.
Михалыч был профессиональный эсер и потому снимал приличную квартиру. (Партия богатела. После убийства Плеве эсеры сразу возвысились в глазах общества и стали сознавать свою грозную силу. Потекли деньги, состоятельные граждане жертвовали десятки тысяч рублей.) Михалыч занимался пропагандой среди студенческой и рабочей молодежи. Фамилию его никто не знал, знали только, что имя его было тоже не настоящим.
Когда братья вошли, в квартире уже было шумно, накурено и полно народу. Все говорили возбужденно и разом. Михалыч послал за шампанским. Шампанское принесли, тосты следовали один за другим, казалось, празднуется какое-то великое торжество.
– Это мой брат! – представлял Петр робеющего младшего брата то одному, то другому гостю. – Гимназист! Из Киева! Между прочим, там тоже бунтуют! Сегодня приехал и – бац! – сразу на такое событие!.. С корабля на бал! Вот именно!.. Ха-ха-ха… Давайте чокнемся! Все вместе!.. За то, чтобы всех, до последнего Романова! Ура!..
Раздался звонок в дверь, и в переднюю ввалилась еще одна порция гостей. Зазвенели женские голоса. Румяная от мороза и счастливая от полноты обуреваемых ею чувств, вошла Наденька.
– Господа, я только что из Москвы! – торжественно объявила она.
– Как? Из Москвы? Только что? Расскажите, расскажите! Что? Как? Что говорят? Неужели в самом Кремле? – Ее окружили и стали забрасывать вопросами.
А она, выдержав по-актерски паузу, вдруг обрушила на собрание сумасшедший вопрос:
– Хотите последний московский анекдот?
– Хотим! Хотим! Расскажите!
Она еще раз выдержала паузу и в абсолютной тишине ясно и звонко произнесла:
– Наконец-то великому князю Сергею пришлось пораскинуть мозгами!
Секунду народ осмысливал произнесенную фразу, и вдруг все грохнули от дошедшего до них смысла. Хохотали до истерики, до слез. Хохотали, глядя друг на друга, и не могли остановиться. Как только смех затихал, кто-нибудь снова повторял удачную фразу, и смех возобновлялся с новой силой. Наконец, утирая глаза и все еще охая и ахая, постепенно успокоились. Тогда Наденька, посерьезнев, заговорила снова:
– Я его знаю. Каляева. Меня с ним знакомили. Хотите послушать его стихи?
– Хотим! Хотим! Читайте!
И Наденька стала с выражением читать:
Христос, Христос! Слепит нас жизни мгла.Ты нам открыл все небо, ночь рассеяв,Но храм опять во власти фарисеев.Мессии нет – иудам нет числа…Мы жить хотим! Над нами ночь висит.О, неужель вновь нужно искупленьеИ только крест нам возвестит спасенье?Христос! Христос!..Но все кругом молчит.Наденька кончила читать в гробовом молчанье и опустила глаза.
– Гениально! – раздался чей-то вздох.
– Неужели его повесят?
– Повесят, еще как повесят! Не сомневайтесь! – В Наденькиных глазах заблистали слезы.
– Надо написать петицию царю о помиловании. От всего студенчества!
– Бесполезно разговаривать с этими сатрапами! Они отвечают только нагайками и шрапнелью!
– Ну что ж, мы тоже умеем говорить на языке бомб и пистолетов!
– Господа! У меня есть знакомый инженер… имя произносить не могу. Он работает над созданием летательного аппарата…
– И что?
– А то, что он собирается спикировать на царский дворец и покончить с тираном!
– Гениально! – раздался тот же голос.
– Господа! – негромко обратился наконец к публике бежавший с каторги съемщик квартиры.
Все прекратили разговоры и обратились в слух.
– Господа! Разрешите еще раз от имени партии социалистов-революционеров поздравить вас… нас всех с большим успехом. Не прошло и нескольких месяцев после того, как был убит один из держиморд нашего правительства министр внутренних дел Плеве. Все знают о его отвратительной, подстрекательной роли в кишиневском погроме… Вся мировая пресса писала об этом очередном постыдном акте царского правительства… Но эти господа давно потеряли стыд, честь и достоинство. Благодаря таким деятелям имя России полощется как грязное белье! Мы, русские патриоты, заявляем решительный протест против… продолжающегося насилия над народом! Тюрьмы и каторга переполнены нашими товарищами – борцами за народное счастье! Общество требует свободы политзаключенным! Оно требует отмены смертных приговоров тем, кто является для царя – преступниками, а для всех честных людей – честью и совестью страны! Мы требуем признать право на жизнь священным! Но мы не только требуем и протестуем, мы действуем! И вот – новая акция наших патриотов. Убит еще один враг русского народа – великий князь Сергей! Как и его отец, тиран Александр Второй, прозванный, словно в насмешку, Освободителем, он пал, сраженный гневом народного возмездия. И пусть Дом Романовых знает: каких бы жертв ни стоила нам ликвидация самодержавия, мы твердо верим, что наше поколение покончит с ним навсегда! Мы не удовлетворимся паллиативными мерами по улучшению жизни народа, которые предлагает напуганное всеобщим гневом царское правительство, и мы не остановимся на этом убийстве! Пусть они знают и трепещут!
Его речь покрыли страстные аплодисменты.
– Правильно! Браво! Русская молодежь поддерживает партию эсеров!
– Я хочу от имени всего студенчества заявить, что партия может рассчитывать на нас… мы не пощадим жизни… да, господа! Ради торжества правды и справедливости… мы готовы… на все! Всех не перевешают, господа!.. – выкрикнул срывающимся голоском совсем юный очкарик.
– Господа!.. Я бы хотел… Тише, господа! Дайте сказать… – пытался перекричать товарищей Петр. – Вот тут некоторые, не буду называть по имени, пытаются трактовать террор как простое убийство…
– Как можно? Назовите фамилии, кто это? Это провокация! Позор! Предательство! – раздались возмущенные голоса.
– Господа, я бы хотел внести ясность, – спокойно проговорил Михалыч и обвел глазами всех присутствующих желторотых юнцов. – Да, мы осуждаем террор как тактическую систему, но! – подчеркиваю это – в ци-ви-ли-зо-ванных странах! В России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и знает только один произвол, где нет спасения от безответственной самодержавной власти Романовых и ее последнего представителя царя-дегенерата Николая, мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права!
Его слова потонули в одобрительных возгласах и аплодисментах.
– Цель наших боевых акций, – продолжал Михалыч, – это не самозащита и не только устрашение, мы хотим довести власть до осознания абсолютной невозможности управлять страной при сохранении существующего строя, до ее полной дезорганизации и хаоса! Как говорил наш герой Ян Каляев: «Я верю в террор больше, чем во все парламенты мира!»
– Ура Каляеву! – восторженно закричали студенты. – Свободу Ивану Каляеву! Свободу всем политзаключенным! Да здравствует свободная Россия!..
Праздник продолжался до самого вечера. Произносились речи. Радовались убийству тирана. Восхищались благородством народных мстителей. Клялись в борьбе до победы. Наконец, рассовав за пазухи данные Михалычем прокламации, стали расходиться.
– Надежда Ивановна, – обратился Михалыч к Наденьке, – останьтесь на минуту.
Наденька вспыхнула, и даже мочки ушей у нее покраснели. Она с готовностью сбросила шубку и вернулась в обезлюдевшую, сизую от табачного дыма комнату. Открыла форточку и стала жадно вдыхать свежий, колючий воздух. Сердце ее громко стучало, заглушая звуки уходящих и прощавшихся с Михалычем гостей.
Наконец ушли последние. Кажется, это были Петр с братом. Натан Григорьевич (он же Михалыч) закрыл дверь и вернулся в комнату.
Наденька бросилась ему на шею.
– Ну полно, полно… ты меня задушишь, – шутливо оборонялся Натан Григорьевич.
– Как я соскучилась, Натан!.. Я чуть не умерла! – И Наденька еще теснее прильнула к Натану Григорьевичу.
– Ну, довольно… отпусти меня, девочка… Слышишь? Нам нужно серьезно поговорить.
Наденька вздохнула и с трудом отлепила свою хорошенькую головку от груди обожаемого учителя.
– Ну а теперь расскажи мне все по порядку, – попросил Натан Григорьевич, усаживая ее на диван и сам садясь напротив нее.
– Все слава Богу. Ты же читал в газетах…
– Как Янек?
– Он… последние дни был не в себе… Из-за этой истории с Елизаветой Федоровной. Понимаешь, уже все было готово, но в карете великий князь оказался не один, а с женой и детьми князя Павла… И Янек говорил, что не смог… из-за детей… что приговор касался только великого князя… и что если теперь ему опять не удастся, он сделает себе харакири.
– Что за чушь!
– Понимаешь, он был в таком… невероятно возвышенном состоянии духа!.. Это невозможно описать. Он все повторял, как он всех любит! Как он счастлив, как он любит весь мир! И что мы непременно победим! И какая будет светлая, прекрасная жизнь!.. Что революция дала ему ни с чем не сравнимое счастье, что ему совсем не жаль принести себя в жертву, что он успокоится, только когда князь Сергей будет убит…
– Ты видела сама, как все произошло?
– Нет… Я пришла уже после… всего. Янека уже увели, а на месте взрыва оказалась только маленькая кучка из останков князя и… всего остального… вершков десять. Князя разорвало буквально на мелкие кусочки… Елизавета Федоровна была как помешанная… Выбежала из дворца и стала, что-то приговаривая, собирать останки князя в платок… Ей помогали… Кто-то принес палец с обручальным кольцом… а сердце, говорят, потом нашли на крыше какого-то здания… Потом сложили все немногое, что от него осталось, на носилки, накрыли шинелью и отнесли в Чудов монастырь… Потом я ушла.
– Ну и отлично, – спокойно сказал Натан Григорьевич. – Я утром уезжаю, Надя. За границу. Начнутся аресты. Надо переждать.
– А я? – вскрикнула Наденька.
– Ты останешься здесь, – спокойно произнес Натан Григорьевич.
– Я не хочу. Я хочу с тобой! Возьми меня с собой, Натан!
– Девочка моя, существует революционная дисциплина, и ни ты, ни я не имеем права ее нарушать.
– Я в положении, Натан, – опустив голову, тихо произнесла Наденька.
– У-у! Милая!.. Что ж ты так неосторожна?.. – Он взял ее за подбородок и приподнял кверху смущенное лицо. – И что? Уже ничего нельзя сделать? – Он смотрел ласково и немного насмешливо.
Наденька покачала головой.
– Тогда тем более, дорогая, тебе нужно оставаться здесь. Ну куда тебе за границу с ребенком?
– А как же Файнберги? Оба профессиональные революционеры и… с ребенком.
– Наденька, когда ты со мной сходилась, я тебе сразу все объяснил. Ни жены, ни детей у меня не может быть никогда. И, кажется, ты не возражала, – добавил он с улыбкой.
Наденька ничего не ответила, она сидела по-прежнему в уголке дивана, отвернувшись от Натана Григорьевича, и тихонько плакала.
– Перестань. Я не люблю женских истерик. Родишь ребенка, отдашь на воспитание… Потом… будет видно, что потом. Денег я тебе пришлю. Да и папаша, я думаю, не бросит падшую дщерь с внуком. Или с внучкой… – сказал он, как всегда насмешливо улыбаясь.
– Можно мне остаться сегодня с тобой? – робко, сквозь слезы спросила Наденька.
– Нет, милая. Рано утром за мной придут. Давай простимся сейчас.
– Натан! – умоляюще прошептала Наденька. – Ну на часик… в последний раз… Бог знает, когда мы теперь снова… Я тебя так люблю!..
3
Выйдя от Михалыча, молодежь еще долго не желала расходиться по домам. Завивалась февральская метель. Шли малыми группами по улицам, пряча детские, еще безусые лица в поднятые кверху воротники студенческих шинелей, а возбуждение бурного дня все никак не утишалось. Решили отправиться в трактир и там продолжить сладостные речи о переустройстве отсталой России на новых, демократических началах, как во всем цивилизованном мире. Жажда коренных перемен кружила молодые головы, и хотелось осуществлять эти перемены немедленно, да хоть бы и с сегодняшнего вечера. А начать хотя бы и с того, чтобы сей же час вступить в боевую организацию (а то и самим создать!) и устроить покушение на… да хоть бы и на самого государя! (Вот это была бы бомба!) А что? Не боги горшки обжигают! Вон Ян Каляев – тоже бывший студент и не намного их старше, а давно уже участвует в борьбе! Учиться? Это всегда успеется! Пусть учатся дураки, а для умных людей самое главное теперь – революция, ее ведь можно и проморгать, она ведь, если вовремя не сориентироваться, может обойтись и без них! И как же это допустить?
Около двенадцати ночи разгоряченные напитками и речами молодые люди покинули трактир, договорившись встретиться на другой день, чтобы уж окончательно определиться с тактикой и стратегий, поскольку мочи больше нет терпеть вековой произвол. Жандармская Россия должна стать свободной! А свобода, как известно, покупается не разговорами, а кровью. Свобода завоевывается с оружием в руках. Ни просить (унижаться!), ни даже требовать у царя мы не собираемся. Сбросить его с престола и покончить со всей самодержавной шайкой, а там… новая земля и новое небо в алмазах, царство небесное на земле! За это не жалко и кровь пролить. Чужую. Да хоть бы и свою! И свою нисколечко не жалко! Снова и снова вспоминали Каляева, и надевали ему на голову венцы, и ставили ему от имени будущей свободной и благодарной России памятники.
После жарко натопленного помещения и еще более жарких речей Петр шел по городу в шинели нараспашку, русые, давно не стриженные волосы выбивались из-под фуражки, а душа его была переполнена любовью к человечеству. Распростившись наконец с такими же, как и он, восторженными товарищами, он вдруг обратился к своему утомившемуся до смерти за весь этот сумасшедший день брату:
– А хороша эта Наденька чертовски!.. Глазища – во! С блюдца! А как захохочет – не оторвешься! Так бы и съел всю!.. Как она тебе?
От неожиданности Павел замялся, не зная, что отвечать брату. Он вовсе не думал ни о Наденьке, ни о свержении монархии в России, а думал только о том, что, пожалуй, зря он приехал в Петербург и лучше бы ему сейчас сидеть в своей чистенькой и светлой комнатке, в особнячке на Андреевском спуске, и слушать, как тикают часы в прихожей, отбивая чýдным боем каждые полчаса, да читать Ключевского, а на рассвете пойти к заутрене, и встретиться с отцом Иоанном, и поговорить с ним о патриархе Никоне и о церковном расколе, о котором у Павла никак не складывается одного мнения: то ему кажется, что прав патриарх Никон, то – протопоп Аввакум…